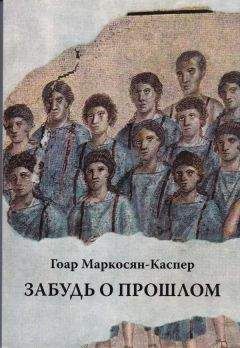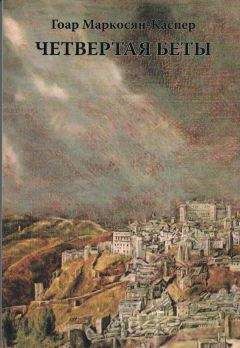Гоар Маркосян-Каспер - Пенелопа
Войдя в комнату, Пенелопа обомлела, увидев кучу народа (что такое? Утром об этой куче речи не было!). Венчал кучу — как бы председательствовал на собрании — самолично дядя Манвел, в недавнем прошлом партийный работник, работник при однопартийной системе, можно сказать, однопартийный работник, ныне невостребованный, давший промашку при «приватизации», «прихваченное» при Советской власти частью промотавший, частью подрастерявший в ходе инфляции и теперь сидевший в похожей на музей широкоформатной квартире, в бархатно-дубовом мебельном гарнитуре, конкретно кресле, за интеллигентным ужином из хлеба, сыра и воды на саксонском фарфоре. Насчет ужина Пенелопа, по своему обыкновению, допустила небольшое преувеличение: на столе стояло кое-что еще, но по сравнению с былыми пиршествами-возлияниями это кое-что вполне можно было приравнять к хлебу с сыром, впрочем, вкуснее хорошего хлеба с хорошим сыром разве что те же хлеб и сыр плюс солидный пучок зелени, лучше кинзы, Пенелопа предпочитала ее всем прочим травам в отличие от Анук, признававшей только тархун, и отца, облюбовавшего в качестве начинки для «бртучика» кондар, — разнобой пристрастий, гарантировавший домашний мир, во всяком случае, над блюдом с сыром, травками и лавашем. Да, много-много лаваша, сыра, зелени, а также шашлычков, кебабов и прочих незатейливых, но вкусных штуковин съел в разнообразных «ветерках», как в Армении именуют то, что во Франции называют «бистро» (от слова «быстро», хотя ни из бистро, ни из ветерков никто никуда особенно не торопится, даже Мегрэ, которого везде ждут — дома жена, на набережной Орфевр инспектора, в точке икс, еще подлежащей вычислению, преступники, а также журналисты, сценаристы, издатели, режиссеры, читатели, зрители и тому подобное), дядя Манвел, не просто съел, но и запил превосходным коньячком — «Ахтамаром», «Васпураканом», «Наири», «Двином», как минимум «Ани». А что теперь? Теперь перед ним стояли самиздатовские «три звездочки», из тех, что красуются на всех прилавках, ценой в две бутылки «Джермука», и окружение у потускневших небесных тел тоже было бледноватое: домашние консервы, пара тарелочек со сморщенными турецкими маслинами, блюдо с дрянной, то ли краснодарской, то ли ставропольской псевдокопченой колбасой и хрустальная ваза со столичным салатом провинциального вида и запаха (и однако, по какому поводу столько яств?). Неподалеку от салата сидела его автор(ша), необъятная супруга дяди Манвела, единоутробная сестра мамы Клары, иными словами, родная тетя Пенелопы Мадлена или просто Лена, чьи распростершиеся на полдивана телеса наводили на мысль, что салат был не один, но прочие уже — может, даже в процессе приготовления — пошли на восполнение потраченных на этот процесс калорий, дабы поддержать в неизменности две незыблемые горы мяса, ныне с удобствами расположенные друг подле друга в основании пирамиды, которую папа Генрих тайком именовал Еленой не совсем прекрасной. Тайком, потому что Клара, в глубине души гордившаяся неоспоримыми преимуществами своей внешности, вслух всегда была готова предать анафеме всякого, кто осмелился б словом ли, жестом посягнуть на неприкосновенность репутации ее рода-племени (на каком основании она относила лишний вес или короткую шею к обстоятельствам, порочащим репутацию, оставалось неизвестным). Рядом с непрекрасной и даже не совсем Еленой восседала вечно недовольная жизнью двоюродная сестра Пенелопы, носившая катастрофическое имя Мельсида. Называть себя этим именем она запрещала, предпочитая домашнее, как обычно, взявшееся неведомо откуда — Лусик; однако время от времени нахалы, дерзавшие нарушить запрет, отыскивались — вероятно, это и было причиной не сходившего с ее длинноносого лица выражения неудовольствия. А может, причиной был сам длинный нос? Длинный нос, кривые ноги, редкие волосы — даже при весьма поверхностном осмотре подобных достаточно, надо признать, веских причин находились десятки, ибо, как ни странно, комом у дяди Манвела вышел второй блин, первый — по мнению Пенелопы — был в полном порядке. Правда, Вардан, если присмотреться к нему с излишней придирчивостью, мог показаться широковатым, но прямо пропорциональна широте его фигуры была широта его души, за что Пенелопа и любила его щедро в отличие от кузины, к которой относилась ровно, в какой-то степени снисходительно, прощая ей даже умопомрачительные наряды и украшения… пожалуйста, хризопразовые бусы! Прошлым летом Пенелопа наткнулась на такие, где это было, на вернисаже?.. нет, на ярмарке, наткнулась, долго приценивалась, но так и не купила — ох и дура ты, Пенелопа, пожалела поганых пять тысяч российских рублей, а теперь хризопразов больше не видно, и придется тебе доживать свой век без них. Цвет изумительный — и что? Шея-то у Мельсидочки — два сантиметра в длину, сорок в ширину, и бусы это только подчеркивают. Угораздит же человека родиться с такой шеей. Бедняжка!.. Итак, Пенелопа относилась к кузине снисходительно, ровно — но без любви. Да и как любить существо никакое — ни умное, ни глупое, ни хорошее, ни плохое, ни доброе, ни злое, ни, ни, ни. Никаких талантов, никаких достоинств, никаких — хотя бы! — выразительных недостатков. Вот Вардан был веселый, добродушный, музицировал, при всей своей массивности танцевал, двигаясь легко и вертко, а уж врачевал он — будучи доктором, не наук, правда, но по призванию — искусно и душевно, больные млели под его ловкими пальцами, моментально выяснявшими местоположение края печени или выстукивавшими так мощно, что грудные клетки ходили ходуном, исправно выдавая ясный легочный или какой там положен перкуторный звук. Конечно, не был он лишен и некоторых изъянов, питал, например, пристрастие к видео — еще лет пятнадцать назад, когда в Армении вошли в моду посиделки у сего технического чуда, Вардан тоже увлекся, посещал компании, собиравшиеся на домашние просмотры, потом приобрел собственный аппарат, возле которого просиживал ночи напролет, глотая бесчисленные кассеты сомнительного содержания, всякое пиф-паф и ой-ой-ой, иными словами, американские фильмы. Пенелопе американское кино не нравилось, хотя она и не питала к этому виду зрелищ такого отвращения, как sister, заявлявшая, что американские фильмы имеют к искусству отношение не большее, чем, к примеру, сходящие с конвейера итальянские общедоступные туфли из кожзаменителя. «Итальянские туфли красивы, — возражала ей Пенелопа, — и не давят на мозоли». «Вот-вот, — отвечала Анук, — американские фильмы тоже красивы и не давят на мозоли. В том-то и беда. Они баюкают уродства и дефекты».
Неизвестно, что баюкал в себе, сидя у видика, Вардан, но особого развития его дефекты не получили. Правда, он приохотил к протиранию штанов перед экраном и сыновей, чему упорно, но безрезультатно сопротивлялась его жена, небольшая, хорошо сложенная и умело покрашенная блондинка со звучным именем Изабелла (впрочем, она с готовностью откликалась не только на более мирное «Белла», но и на фамильярные «Белка» и «Белочка»), учительница в начальных классах, тихая и благовоспитанная, которая смотрела на мужа с постоянным удивлением, смущаясь, когда он разражался особенно раскатистым хохотом, сопровождавшим им же рассказываемые анекдоты, или садился за пианино, опускал крупные руки на клавиши и извергал неожиданно виртуозные, но непременно громкие — фортиссимо! — пассажи. Что ни странно, шум, производимый Варданом, не тяготил, смех его был заразителен, а голос, похожий на пресловутую иерихонскую трубу, не рушил стен, а, напротив, вселял в души мир и покой… впрочем, он вполне умел понизить его до шепота, вот и теперь, усевшись рядом с Пенелопой, он по-братски подтолкнул ее локтем и тихонечко даже не произнес, а вдунул в ухо: «Ну как там наш Одиссей? Все хитрит?» Пенелопа вздохнула, но за Армена вступилась — какой из того хитрец, он ведь и прилгнуть, когда надо, толком не умеет, не солгать, упаси боже, а прилгнуть. «Ну а прихвастнуть? Это-то он умеет? Конечно, умеет, не хуже настоящего Одиссея». «Разве Одиссей — хвастун?» — удивилась Пенелопа. «А ты не помнишь, как он выпендривался перед циклопом? Огромный такой циклопище, с гору, швырялся человечками, как шахматными фигурками… А этот олух Одиссей… Я тебя ослепил, я, такой-сякой!.. не трепался б, избежал бы кучи неприятностей». Пенелопа остолбенела — надо же так помнить Гомера!.. потом поняла, что любимый ее братец не Гомера штудировал в бессонные ночи. Кино смотрел. А что, вполне современный сюжетец — драки, убийства, циклоп этот жуткий, красотки в хитонах и без… «И Армен твой, — продолжал Вардан насмешливо, — сидел бы тихо, никто его в Карабах не погнал бы. Методы у него, видишь ли. Статеечки, тезисы. На кой черт суету разводить, лечишь себе и лечи. Нет, честолюбие заело. Вот и расхлебывает». Пенелопа только вздохнула, истинная правда, сидел бы, помалкивал, никто б не тронул, а сунулся со своими методами — пожалуйста, езжайте, господин всезнайка, на бывший театр военных действий, лечите героев войны, а верная Пенелопа будет в одиночку отбиваться от настырных женихов, хорошо еще пирующих за собственный счет… Придется, видно, сказать Эдгару-Гарегину, что ответ ему будет дан по окончании вязки свитера, а самой вязать и распускать, вязать и распускать… да-да, не жизнь, а сплошной римейк… «Нет, серьезно, есть от Армена известия?» — спросил Вардан, и Пенелопа уныло призналась, что давно нет, про гипотетических Калипсо с Цирцеей говорить не стала, но все же пожаловалась Вардану на непрочную память его приятеля, и Вардан сокрушенно ударил увесистой дланью себя в грудь, мол, mea culpa, поскольку сам и познакомил Пенелопу с Арменом, хотя и без задней мысли, да и не до мыслей было в тот момент, ни до задних, ни до передних, ибо у еще одной двоюродной сестры, их общей, обнаружилась опухоль мозга, а тут уже никакая кривая не вывезет, только скальпель в руке нейрохирурга да сама эта рука. Руку выбрал Вардан, с Арменом он учился на одном курсе и не то чтоб дружил, но никогда не терял того из виду и, переступив через судороги и вопли родни, особенно родителей страдалицы, настаивавших на профессорах и доцентах, позвонил Армену, практикующему врачу, как объяснил свой выбор обескураженному роду-племени, позвонил и попросил спасти. И Армен спас. Наверняка он спас бы и без звонка, это Пенелопа поняла позднее, познав его характер, спас бы не только в те времена, когда брали не все и по преимуществу когда дают, но и в нынешние, когда тянут все поголовно, совершенно не считаясь с платежеспособностью пациента, полагая, видимо, что рыночная экономика и есть рыночная экономика: одному хватает на операцию, другому на анальгин, а третьему на скромные похороны, надо к этому относиться философски и нечего разводить антимонии. А также церемонии, антиутопии и прочие сантименты. Конечно, сказать, что Армен при виде денег или иных подношений покрывался холодным потом, падал в обморок, хватался за револьвер, словом, начинал корчить из себя работающего единственно из любви к искусству и советскому человеку, а посему бездомного, питающегося воздухом и одетого в рубище святого из большевистских святцев, было бы преувеличением. Само собой, случалось всякое, работал он и из любви к искусству, и из человеколюбия, но принять у зажиточного пациента некую толику на свои насущные нужды не гнушался, как и любой нормальный советский врач, приговоренный государством либо к почетной участи гуманиста, априори обеспеченного ключами к райским вратам, самым узеньким, с ушко иголки для штопки капроновых чулок, в которые не то что богатый, одетый-обутый не пролезет, либо к постоянной уголовно наказуемой деятельности, что неизбежно сопряжено со страхом и унижением. Впрочем, наказывало государство относительно редко, предпочитая, как всякий садист, угрозу наказания самому наказанию, но ни первая, ни второе не способны были отвратить медиков от простой человеческой потребности жить не хуже других. А при возможности и лучше. Эти рассуждения не означают, что Пенелопа одобряла сложившееся положение вещей, теоретически она избрала б в возлюбленные стопроцентного бессребреника, идеалиста, посвятившего себя великому служению, с почти ангельской чистотой помыслов (не говоря уже о поступках), и, однако, тряске в автобусах она предпочитала езду на машине, покупке пирожков на углу (об акридах в пустыне речи нет) — легкий ужин в ресторане или кафе, а открыткам к Новому году и Международному женскому дню — французские духи или бусы из малахита. Нельзя опять-таки утверждать, что она не могла без всего этого обойтись, — обошлась бы, да зачем? В конце концов, не ее же, Пенелопу, он по большому счету кормил, а семидесятилетнюю мать, подкармливал и разведенную сестру с детьми, плюс алименты, которые еще выплачивать и выплачивать на дочку от первой жены… то есть не первой, а единственной, иногда Пенелопе случалось оговориться — не потому, конечно, что мысленно она считала себя второй, а потому что… Ну просто так! Проклятые мужчины, гады и уроды, они ползают у твоих ног и готовы не то что жениться, но отдаться в рабство, надеть ошейник с цепочкой, ходить на задних лапах и носить поноску, а потом… Потом, когда и ты помаленьку созреешь, они — фьюить! Глядишь, закопошился товарищ, поднял голову — не успеешь оглянуться, как он уже стал на все четыре и рычит, рычит… Так, значит, с первой, тьфу, единственной женой Армен развелся задолго до знакомства с Пенелопой, оставил ей, как водится, квартиру… умеют же они устраиваться, эти ловкачки с детьми, квартиру — цап, алименты плати, ребенку то ли позволит с отцом водиться, то ли нет, потом выскочит замуж по-новой, у таких получается, механизм отлажен, сбоев не дает, и, пожалуйста, еще один папа. Первый, то есть, наоборот, второй, ребеночка кормит-поит, от предыдущего денежки капают, вполне, кстати, вероятно, что свежеприобретенный папаша — цеховик или, говоря современным языком, бизнесмен, а отставленный — нищий, но поскольку гуманные советские законы в подобные детали не вдавались, Арменчикина бывшая родственница с мужем и двумя уже дочками обретается ныне в четырех комнатах плюс запертая однокомнатная квартирка про запас, а Арменчик с мамой в двух, раньше втроем ютились, с папой, но в прошлом году папа умер, и теперь Армен живет с матерью, как паинька и маменькин сынок. Правда, в основном-то он обитает в своей драгоценной клинике, там ест, спит и моется, домой ходит белье сменить да сорочку свежую надеть, мама бедная в глаза его не видит, встречается главным образом с грязными рубашками, ибо те пару вечеров в неделю, в которые Арменчик не на дежурстве, он проводит со своей полудрагоценной Пенелопой… проводил, пока не спровадили его пришивать «солдатам свободы» (не метафора, а буквальный перевод с армянского) оторванные руки-ноги-головы. Так он выразился при первой встрече, когда восхищенная Пенелопа — она любила людей, знающих свое дело, — попросила Вардана показать ей того замечательного нейрохирурга. (В клинику она отправилась с охапкой белых гвоздик, гвоздики, правда, натаскали ученики, то был день последнего звонка, но Армен этого, естественно, никогда не узнал.) «Вообще-то опухоли не по моей части», — сказал он скромно, вернее, нескромно. «А что по вашей?» — спросила Пенелопа. «Я… как бы это сформулировать? Ну нервы сшиваю». «То есть пришиваете оторванные руки-ноги?» — уточнила Пенелопа. «И головы», — подтвердил он. «Это хорошо. Жаль только, что нельзя пришить головы тем, у кого их не было изначально», — вздохнула Пенелопа, и он сокрушенно развел руками — увы…