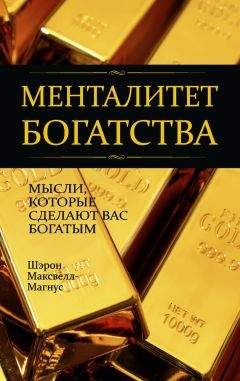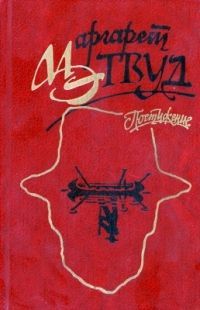Маргарет Этвуд - Мадам Оракул
Впрочем, Артур не всегда вставал рано. У него бывали периоды депрессии. Разочаровавшись в соратниках по движению за запрет атомной бомбы, он на какое-то время отошел от политики. Но вскоре вновь занялся делом — гражданскими правами; ездил в Штаты, где его чуть не застрелили. С правами тоже ничего не вышло, и у Артура снова начался спад. Потом, быстро сменяя друг друга, передо мной прошли Вьетнам и укрывательство призывников, студенческое движение и страстная влюбленность в Мао. При каждом новом увлечении не только Артур, но и я должны были подолгу штудировать соответствующую литературу. Но я, как ни старалась, непременно оказывалась на полшага сзади — наверное, потому, что у меня всегда было туго с теориями. Стоило мне приспособиться к новым взглядам Артура, как они менялись, и вот уже меня обращали в иную веру, перестраивали, совершенствовали, показывали очередной свет в конце тоннеля… «На-ка, — говорил, бывало, Артур, — прочти вот это», — и я понимала, что мы уже на другом витке.
Артура губила чистота помыслов — чрезмерная, — которой он требовал и от других. Осознав, что не все горят тем же непорочным пламенем, что кем-то движет гордыня, а кем-то — личный интерес и жажда власти, мой муж впадал в ярость. Он был истинным узником совести.
Когда-то я думала, что Артур един сердцем, разумом, телом и духом; себя же, по контрасту, считала злосчастным собранием мелкой лжи и жалких оправданий — все они, отдельно взятые, на первый взгляд целостны, но полностью дискредитируют друг друга. Но скоро обнаружилось, что разных Артуров ничуть не меньше; просто я «размножаюсь» параллельно, а Артур — последовательно. На пике увлеченности каким-либо из движений Артур работал за шестерых, почти не спал, сшивал степлером бумаги, сочинял пламенные воззвания и носился с транспарантами. В низшей точке он редко вылезал из постели, просиживал целые дни в кресле, курил одну сигарету за другой, смотрел в окно, в телевизор, возился с паззлами, складывая картины Джексона Поллока или узоры персидских ковров. Я для него обретала относительно четкий облик только на подъеме или спаде, а во всех других случаях была расплывчатым пятном, дающим пропитание. Любовью мы занимались только в промежуточные периоды. На подъеме у Артура не бывало времени, а на спаде — сил.
Я восхищалась кристальной чистотой его совести и завидовала ей, несмотря на все неудобства, которые она причиняла: когда у Артура начиналась депрессия, когда его терзало разочарование и апокалиптические предчувствия, и он рассылал письма соратникам по последней борьбе и отрекался от них как от негодяев и предателей, отвечать на возмущенные, оскорбленные, недоуменные телефонные звонки приходилось мне. «Ну вы же знаете, какой у нас Артур, — оправдывалась я. — Он последнее время неважно себя чувствует и так подавлен».
Разумеется, я бы предпочла, чтобы он извинялся сам, но Артур специализировался по засадам. Он никогда не вступал в конфронтацию и терпеть не мог объясняться. Он просто вдруг, вследствие непонятных и сложных умозаключений, приходил к выводу, что такой-то и такой-то — люди недостойные. И не потому, что совершили какой-то конкретный нехороший поступок, нет; они таковы от природы. Вердикт Артура был окончателен и обжалованию не подлежал. Я однажды сказала, что он ведет себя как кальвинистский Бог, но Артур сразу обиделся, и я не стала развивать эту тему. Втайне я опасалась такого же суда над собой.
Я очень надеялась, что Артур сумеет найти людей, способных вынести непомерный груз его доверия. И не только потому, что желала ему счастья. Хотя я желала. Но были и еще две причины. Во-первых, его Депрессии вгоняли меня в ужасную тоску, потому что доказывали мою несостоятельность. Известно ведь, что любовь хорошей женщины хранит мужчину от всех несчастий. А я, когда он тосковал, не могла его утешить, как бы плохо ни готовила. И следовательно, не была хорошей женщиной.
Во-вторых, в такие периоды я не могла уделять внимание «Костюмированной готике». Артур почти все время бесцельно слонялся по дому, а если он ничего не делал, то я, по его мнению, тоже не должна была ничем заниматься. Стоило мне уйти в спальню и закрыть за собой дверь, как он открывал ее, вставал на пороге и, глядя обиженными глазами, объявлял, что у него болит голова. Или просил, чтобы я помогла ему с кроссвордом. При виде таких страданий трудно было сосредоточиться на волнующихся грудях героини и тонких, хищных губах героя. Приходилось делать вид, что иду искать работу — и временами, в целях самозащиты, действительно ее находить.
После замужества литературные занятия перестали быть только легким заработком, но превратились в нечто большее. Я по-прежнему казалась себе мошенницей, которой удачно сходит с рук какой-то обман, и все же работа стала для меня гораздо важнее, чем прежде. Не сами книги — они мало изменились, но то, что я — едина в двух лицах, у меня два комплекта документов, два банковских счета и два полностью различных круга общения. Да, я, несомненно, Джоан Фостер; так меня называют, и у меня есть подлинные документы, чтобы это доказать. Но я же — Луиза К. Делакор.
Проводя сколько-то часов в неделю в обличье Луизы, я бывала всем довольна, терпелива, добра, кротка, сострадательна. А когда не могла поработать над очередной книжкой «Костюмированной готики», то становилась злой, раздражительной, много пила и плакала по любому поводу.
Так мы и жили год за годом. Циклы бешеной активности Артура находились в противофазе с моими, и все шло своим чередом. Я его любила и с некой периодичностью начинала разговор о том, что, пожалуй, настало время где-то осесть, более или менее постоянно, и завести детей. Но Артур отвечал, что не готов — он еще столько всего должен сделать; да и сама я, положа руку на сердце, сомневалась. Детей я, конечно, хотела; но что, если мой ребенок окажется похож на меня? Или, хуже того, я окажусь похожа на свою мать?
Все эти годы я таскала свою мать на шее, как гниющую тушку альбатроса на веревке. Она часто снилась мне, моя грозная, равнодушная трехголовая мать. Сидела у трюмо, изредка плакала. Но никогда не улыбалась и не смеялась.
В самом худшем из снов я не видела ее вообще. Я то ли стояла перед дверью, то ли пряталась за ней, непонятно. Дверь была белая, как в ванной или, может быть, в чулане. Меня заперли не то внутри, не то снаружи; по другую сторону слышались голоса, иногда много, иногда только два. Они говорили обо мне, обсуждали меня, и, вслушиваясь, я начинала понимать, что со мной вот-вот должно случиться что-то ужасное. Я была абсолютно беспомощна, ничего не могла сделать и во сне забивалась в самый дальний уголок каморки. Я хваталась руками за стены и упиралась пятками в пол: им меня отсюда не вытащить. Тут слышались шаги: кто-то поднимался по лестнице, проходил через холл…
Артур расталкивал меня.
— Что такое? — спрашивала я.
— Ты храпела.
Храпела? Какой стыд. Одно дело — кричать во сне, но храпеть… «Мне снился кошмар», — объясняла я. Но Артур не понимал, с какой стати мне должны сниться кошмары. Ведь у меня все в порядке. Нормальная девушка, куча достоинств, умная, красивая— неужели нельзя воспользоваться этим и чего-то добиться в жизни? Надо всегда идти на шаг впереди других, советовал Артур.
Он не понимал одной простой вещи: есть только два сорта людей — худые и толстые, и поэтому в зеркале я вижу совсем не то, что он. Вокруг меня фантомной луной вечно витал ореол моего бывшего тела, будто на мое отражение был наложен образ летающего слоненка Дамбо. Я стремилась забыть прошлое, но оно отказывалось забывать меня; дожидалось, пока я засну, и припирало меня к стенке.
21
Анализируя, понимаю, что наш брак был счастливее большинства других. Я даже чуточку гордилась этим. По-моему, женщины очень часто совершают одну принципиально важную ошибку: ждут от своих мужей понимания. Тратят уйму драгоценного времени на объяснение собственных чувств, тащат на блюде свои эмоции и реакции, недостатки и потребности, и любовь, и гнев, и обиды. Как будто от разговоров может быть прок. Друзья Артура женились в основном именно на таких особах, и, как я знаю, последние считали меня безропотной плаксивой дурой. Их самих бросало из кризиса в кризис — непременно с толкованиями и комментариями, — они держались на нервах, сигаретах, на зубодробительной откровенности и том, что их мужья называли нытьем. Со мной ничего такого не бывало, и приятели Артура немного ему завидовали и поверяли мне на кухне свои страдания. Их терзали и загоняли в угол, при этом их жены были полны той железобетонной уверенности в собственной правоте, которая всегда заставляла меня вспоминать о матери.
Мне же вовсе не хотелось, чтобы Артур меня понимал — наоборот, я много делала для того, чтобы этого не произошло. Конечно, периодически меня посещало желание все о себе рассказать, но я решительно с ним боролась. То, как я вела себя в детстве, моя тогдашняя суть могли навсегда отвратить спартанца Артура — как если бы он заказал в ресторане стейк, а получил неразделанную коровью тушу. Думаю, втайне он это подозревал; по крайней мере, явно пугался моих немногочисленных откровений.