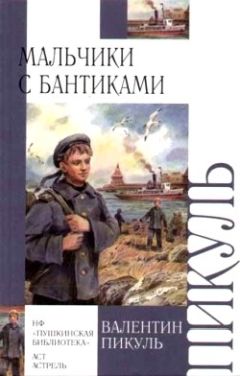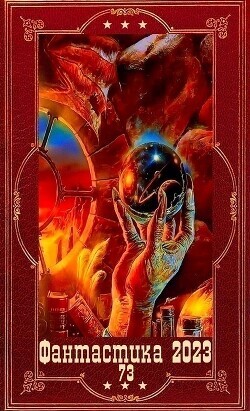Мальчики и другие - Гаричев Дмитрий Николаевич
Уложив книгу на тот самый стол, за которым она писала обзоры литературных страниц, Наташа вытащила из картотеки самый первый ящик: Адашев оказался всего один, и тот какой-то пчеловод; все это начинало снова бесить ее: для чего тогда было открывать дверь, впору казалось устроить здесь тоже погром, но она вспомнила, что в столе у Светланы Николаевны лежит вековая тетрадь с телефонами и адресами всех читателей, когда-либо переступавших этот порог. На одиннадцати страницах, доставшихся букве А, ничего не нашлось, и Наташа, отдавая дань местным обычаям, отлистала списки до буквы О, где мгновенно наткнулась на Одашева Арк. Павл., 1954 г. р., проживающего на улице Нижней, д. 5, кв. 78. Наташа понятия не имела, где эта улица, и вбила адрес в карту; карта показала, что Наташа на месте. Она спросила еще адрес городской библиотеки, и все правда совпало; разумеется, ее впервые привели сюда ребенком, она никогда не знала, что эта улица называется Нижней. У Адашева был телефон; не давая себе затормозиться, она села за библиотечный аппарат и проворно набрала номер: четыре далеких гудка спустя трубку сняли и усталый голос сказал: поднимайтесь; а еще через секунду добавил: верните, пожалуйста, книгу.
Трубку тут же повесили, но Наташа еще долго кричала в телефон, колотя по столу свободной рукой: я несла этот кирпич через весь город, у меня болят руки и спина, в меня въехал мудак за мостом, мне свистели с балкона, а в парке была такая музыка, от которой случаются выкидыши; вы могли бы спуститься сюда, а не заставлять меня карабкаться к вам на этаж. Когда она вновь взяла книгу, та словно прибавила еще; шепча проклятия, она вышла из библиотеки и обогнула дом: нужный подъезд оказался в другом конце, Наташа прошла весь двор, широко ставя ноги, почти плача от тяжести. У подъезда было не на что присесть, и она опустилась на пыльный асфальт, не заботясь, что ее может увидеть даже кто-то из тех, кто смотрел передачу. Отдышавшись, она в несколько быстрых шагов втащила книгу на лестницу и рухнула вновь: зеленый томик весил теперь как мужнина гиря, нужно было ставить его вертикально, чтобы потом было удобней поднять. У почтовых ящиков между первым и вторым этажами она скинула куртку; каждая ступень давалась с еще бóльшим усилием, рот высох, а по спине проползал живой ручей: видимо, это и была та самая башня, с которой все началось и которой все должно было закончиться. На третьем этаже ей встретился безразличный одноглазый кот, Наташа попробовала его приласкать, но тот хватил ее лапой и слился; зернышки крови усыпали руку, она снова вцепилась в книгу, сжав зубы так, что голову охватила мелкая дрожь.
На четвертом она уже ничего не стеснялась и вскрикивала при каждом новом рывке; разворачиваясь на предпоследней площадке, она не удержалась и рухнула на ступени, едва успев выставить перед собой локоть, лестница загудела, и тогда же наверху открылась обитая кожзаменителем дверь: выйдите хотя бы сюда, воскликнула Наташа сквозь слепящую боль, неужели так сложно, вы все же мужчина; но квартира молчала, и она, обхватив книгу как будто всем телом, на коленях одолела последние ступени и улеглась на пороге лицом к пустому коридору, оклеенному цветочной клеенкой. Я принесла, с последней твердостью сказала Наташа и почувствовала, что сейчас заснет; тогда она все-таки собралась и встала обратно на ноги, отряхнула налипшую пыль, убрала с лица волосы и стала спускаться. Ударенный локоть распух и рукав весь намок, но идти было так невозможно легко, что она даже не остановилась подобрать брошенную куртку.
Война
Московские люди, жители одинаковых районов с одинаково крикливыми, птичьими именами, приезжали к нему еще реже, чем он к ним, но эти приезды всегда были полны значения: до его никчемска было два часа только железной дороги, не считая внутримосковских скольжений, и делать им здесь было точно нечего, кроме того, чтобы говорить с ним. Это ему в их Москве всегда было нужно что-то еще, кроме них: два-три раза в году он ночевал в их чужих квартирах перед ранним отпускным аэропортом или после концерта и всегда, как искренний провинциальный подросток, страшился, что его молча подозревают в улыбчивом оппортунизме. Встречая же их на своей собственной платформе и сводя в начинающуюся сразу за рельсами заросль, Ян впадал в схожее детство ума, исполняясь гордости и за них, решившихся докатиться до этих безвестных мест, и за себя, живущего здесь уже столько лет и, допустим, не вздернувшегося, как кое-кто из небезнадежных вроде бы местных друзей, не забитого в дикой уличной стычке и не провалившегося навсегда под неверный речной лед.
Поезд, что сейчас вез к нему Тимлиха, лучшего рапириста Речного вокзала, опаздывал, оттеняя безупречность своего главного пассажира; он стоял на платформе совершенно один, и никто не мешал ему развивать эту вечную выдумку о выманивании не совсем осторожных москвичей с их высокоустроенных уровней сюда, где город сваливается в лес так бесконтрольно, что словно бы и никогда из него не вываливался. До пресловутых владений змеиного бога отсюда, положим, еще было долго (и все же значительно ближе, чем от Речного вокзала), но в том-то и состоял подвох этой земли: здесь был ничейный промежуток, неподвластный ни организующим силам, воздвигшим Москву, ни тем страшным течениям, что зарождались в глубине шатурских болот, а выходя на свободу, размывали несколько более отдаленные города вроде Киржача или Струнина, истачивая их в колкий бетонный песок. То есть там была точная безвозвратная пропасть, куда не стоило даже заглядывать, да и с чего бы, и такая гарантия гибели обеспечивала этим пространствам смертельную внятность и определенность, а та полоса, за которой досталось следить ему, оставалась невыраженным, колеблемым пограничьем, где могло произойти слишком многое, так что даже очертания здешней застройки, мостов и не видимых никому, кроме Бога, билбордов непрестанно дрожали и плыли и все не могли до конца изолгаться; а теперь ко всему был июль, добавлявший дрожания и плавкости воздуху, стенам, углам, и сам Тимлихов поезд, наконец с сопением вползший в тупик, мелко трясся и глитчевал, похожий на огромного мармеладного червя.
Мы отобрали эти земли у малопонятных племен, объяснял Ян своему внимательному гостю, увлекая его сквозь замусоренную заросль в сторону дома; от них мало что уцелело, совсем ничего, разве что можно представить, что развитие их в самом деле продолжается где-то там, под болотным покровом, куда они скрылись от наших нападок восемьсот лет назад, и, вероятно, достигло некоторых вершин и глубин, раз в какой-то момент большинство торфоразработок здесь было внезапно прекращено. Можно также предположить, что их незаметность теперь заражает и нас словно бы помимо нашей воли: так-то многие рвутся здесь к славе, чего говорить, я и сам ходил в лито до самого школьного выпускного, а другие ходят и сейчас; или пишут треки, натурально вернувшись со смены на прибрежных складах, но что-то стабильно и непроходимо мешает им всем обрести видимость: и это древнее проклятие, наложенное на тех, кому досталась поверхность этой земли, настолько обстоятельно, что они даже не ощущают его и вполне искренне считают, что у них все в порядке. Но с чего бы им ущемляться, возражал благоразумный Тимлих: разве ты думаешь, что постящий нелепое стихотворение или выкладывающий плохо сведенный трек не имеет права испытывать честное счастье; ты будто бы не допускаешь, что для них важна сама завершенность их какого-никакого труда. Это правда, признавал он, я завидовал им раньше и, наверное, еще завидую сейчас, что в общем странно: ведь это я теперь владею и распоряжаюсь этим местом, расчисляю и заселяю его как мне заблагорассудится, и никто не может ни покинуть его, ни очутиться здесь, если я этого не захочу. То есть те, кого ты не встречаешь на платформе, просто не могут с нее сойти и должны ехать обратно, уточнял Тимлих; почему же, немедленно отвечал Ян: в этом я им помешать не могу, они приезжают ровно тем же поездом, что и ты, но выходят из него куда угодно, только не сюда.