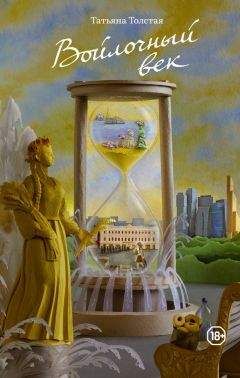Татьяна Толстая - Изюм
Тут вдали, в сумочных ячейках, произошло какое-то шевеление. Ну все, теперь точно меня обкрадывают, ловко отвлекая мое внимание на блеск витрин. Но нет, это к троим вооруженным служителям культа присоединились две весталки: что-то в выражении моего лица, видимо, подсказало им, что меня опасно оставлять одну. Первая бегло осмотрела мою одежду: не оттопыривает ли украденное мои карманы, а то, может, у меня внутри пиджака пришита петля, как у Раскольникова, — а бывает. «Вам что-нибудь пояснить?» — спросила вторая.
«Поясните мне, отчего это ложка для картоф. стоит 2 миллиона 840 тысяч 400 рублей?» — «Это очень престижная вещь. Ухаживать за ней легко и просто. — Глаза женщины были пусты, фальшивы и печальны. — Только необходимо приобрести специальные мешочки. Серебро хранят в мешочках, чтобы уберечь от налета». — «От налета лучше в сейфе, а сейф закопать в вечную мерзлоту», — посоветовала я. — «Брать будете?» — «Не сегодня», — сказала я. Все пятеро жрецов посмотрели на меня с презрением. Мне нужно было покинуть «Домашний очаг», не теряя достоинства. Главное тут — небрежность. Делая вид, что меня внезапно заинтриговала лампа за 12 миллионов, я с прямой спиной, небрежно направилась назад, к ячейкам: «Отдайте мне мою сумочку».
Тут у мешковатых мужчин, следовавших за мной по пятам, осмыслились взоры, и они заговорили. «С этой стороны нельзя». «Вы должны выйти из магазина, обойти вокруг и снова зайти». «Глаза у вас есть, женщина? — тут „кирпич” нарисован. Выйдите мимо кассы, и обходом через проход».
«Вот оно: выигрывают время, — догадалась я. — Вот как тут у них все устроено: пока я буду пробираться через огороды, они как звери кинутся на мое сокровище и разнесут все в клочья». Я снова прошла через весь длинный, бесконечный магазин, через все разбойничье логово. Прошла под осуждающими взглядами бронированных бойцов охраны, под взглядами торговых работниц, на дух не выносящих неновых нерусских, мимо витрины с остатками фарфора и грамматики («бдюдце» — 225 000 р.), вышла, развернулась и — обходом через проход — вихрем, задыхаясь пронеслась по полутемному пустому коридору. Я успела: схватила свою сумочку прежде, чем они, все было в целости и сохранности — и газета, и записная книжка, и кабачок с петрушкой, и сигареты, и даже зажигалка! Хотели меня ограбить, но не вышло. Фее — бой! Победа за нами. И прижав свое сокровище к сердцу, я вышла на душную и жаркую улицу с душевным подъемом.
Как радостно сердцу! Где еще, когда еще — подумать только! — можно за каких-то там полчаса в какой-то там посудной лавке — пережить весь основной набор эмоций, не всегда-то в полной мере и выпадающий на долю человеку в течение жизни?
Страх, глупость, тщеславие, искушение, унижение, жадность, предательство, снобизм, паранойя — мои, не чьи-нибудь, — расставьте сами и добавьте от себя. Господи Боже, Царю Небесный! Благодарю тебя, что в неизреченной милости Твоей не даешь забыться и погрязнуть в гордыне. Что в минуту слабости и низости нашей бабахаешь человека в лоб ложкой для картоф., чтобы напомнить ему: прах еси и в прах возвратишься.
Или же наоборот, Господи?…
Июль 1998
ОСТРОВА
Лед и пламень
к юбилею народного избранника
Как-то раз две американские фигуристки Нэнси и Тоня готовились к олимпийским соревнованиям; Тоня, боясь, что Нэнси ее обойдет, подослала своего приятеля, чтобы тот во время тренировки подстерег Нэнси и хряпнул ее железным ломом по ноге. Так и вышло, Нэнси получила травму, Тоню же разоблачили и судили. Американцы были глубоко возмущены, Нэнси Кэрриган стала народной героиней, а Тоня (вот я даже фамилии ее не помню) — воплощением зла. При этом Нэнси была красивой девушкой — длинноногая, элегантная, а Тоня — на любителя: крепко сбитая, грубоватая, так что осуждать Тоню было легко и приятно. На Олимпиаде американцы очень болели за Нэнси, но вот досада: украинка Оксана Баюл каталась лучше и получила золотую медаль, а Нэнси досталось серебро. Тут были посеяны первые семена тревоги: ведь не может быть, чтоб американцы не были впереди планеты всей во всех отношениях. Даже если причиной невыигрыша был удар ломиком, — тем не менее. Американцы — нация не так чтоб жалостливая, любят только победителя, и слово loser — одно из самых страшных в их словаре. Но все ж таки своя, и Нэнси пригласили за 2 миллиона долларов порекламировать Диснейлэнд. Кто бы сказал «нет»? Нэнси согласилась и под приветствия толпы, разряженной ради праздника в майки, шорты и бейсбольные кепочки, проехалась на рекламной платформе, вся в цветах и воздушных шариках, махая рукой. Рядом с ней махал лапой Микки-Маус, национальная мышь, — размером с небольшой американский домик, черный, навеки осклабившийся, с белыми глазами-плошками, в белых вздутых перчатках. Все это показалось Нэнси очень глупым, и она пробормотала чуть слышно: «oh, how cheesy», что примерно это и значит. На груди у девушки был прикреплен микрофончик, о чем она забыла, и ее шепот расслышал один журналист, который немедленно донес на получемпионку. Тут началось!.. Вся страна, разгневанная, поднялась на защиту народной мыши. Пресса бушевала, ТВ не умолкало, несчастную требовали к ответу! Обвинение состояло из двух частей: во-первых, как она могла, взяв два миллиона — не жук чихнул, — обронить дурное слово (хотя оно не было предназначено ни для чьих ушей, а любовь, понятно, даже за такие большие деньги не купишь), а во-вторых, как она, молодая и милая вроде бы девушка, могла дойти до жизни такой? Куда смотрела школа, родители? Как такой моральный монстр мог появиться в нашем, казалось бы, прекрасном обществе, где созданы все условия для счастья и личных достижений, где весь американский народ, как один человек, from sea to shining sea, в едином порыве пьет те же липкие конкурирующие колы, носит те же бейсбольные кепки, горячо и верно любит мышь? Да наш ли она человек, тем более что вот — и место заняла второе! Нэнси плакала по телевизору, просила прощения, оправдывалась, пыталась что-то объяснить. Но суровые лица простых тружеников… — далее см. материалы бухаринско-зиновьевских процессов. Существуй в Америке лагеря Мордовии, серебряная медалистка уже возила бы там тачку или корчевала пни.
Не веря собственным органам чувств, я спросила своих американских учеников, не кажется ли им глупым и недостойным так публично измываться над фигуристкой из-за какой-то там дурацкой… «Не троньте мышь!» — звенящим голосом крикнула студентка, сжимая кулачки. — «Вы любите это чучело?» — неосторожно удивилась я. — «Да!» — закричали все 15 человек. — «Национальная гордость, никому не позволим!» — «И правильно этой твари по ноге врезали…» — хрипло сказал студент с темными от героина подглазьями. «Дисней — это наше детство!» В ежегодном отчете-доносе о моих преподавательских качествах эта группа написала, что я — черствая, зашоренная личность, не уважающая американскую культуру. Студенты, не участвовавшие в разговоре, были обо мне не в пример лучшего мнения. Думая, что это смешно, я рассказала об этом приятелю, американскому профессору-либералу. Он не засмеялся, но посуровел. «Не надо задевать Микки-Мауса», — сказал он с укоризной. — «Но вы-то, как либерал…» — «Не надо! Микки-Маус — основа нашей демократии, цементирующий раствор нации». Я попробовала подбить его на государственную измену: «Ну а если между нами… По-честному?.. М-м?.. Любите вы его?» Профессор задумался. Шестьдесят пять прожитых лет явно прошли перед его внутренним взором. Что-то мелькнуло в лице… Открыл рот… «Да! Я люблю его! Люблю!» Все же разговаривал он с иностранцем и план КВЖД за жемчугу стакан не продал.