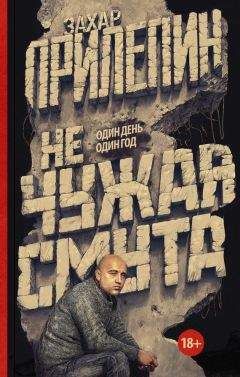Захар Прилепин - Чёрная обезьяна
Услышав приказ, никто не возмутился, и я тоже, тем более что нам с Верисаевым выпало остаться в штанах.
Все, чертыхаясь и моля о приходе утра или хотя бы дежурного офицера, разделись.
Я скосил глаза на свое раскрашенное угрями плечо.
Те, что оказались нагими снизу, озирались дурными глазами и еле заметно поводили во все стороны руками так, словно в любую минуту к ним могла подплыть воздухоплавающая рыба и укусить куда-нибудь.
— Первые надевают вот это на головы, — скомандовал дед Филипченко и, забрав у шепелявого, выдал нам с художником по чулку, — а вторые вот это на свои органы, — и наделил двух оставшихся духов носками.
Чулок на вкус оказался ароматным и ногой не пах. Такое ощущение, что его носили на каком-то гладком и продолговатом фрукте.
Делать нам ничего не пришлось, потому что вид четырех духов — двух в черных, с кружевами, масках на голове и двух в черных носках на чреслах — безо всяких излишеств был восхитительно хорош.
Деды заливались, показывая многочисленные зубы, а также редкие пробелы меж ними.
Через минуту смеяться стали тише, через две совсем затихли, хотя вкус к радости еще не пропал.
— Так, — догадался дед Филипченко. — Меняемся теперь. Балетный взвод, передать чулки рядовым! Труппа спецназа, скинуть носки товарищам!
Мы обменялись трикотажем. Я брезгливо взял доверенный мне носок двумя пальцами, стараясь не смотреть на то, куда он только что был надет.
— Хули стоим? — вдруг взъярился Филипченко. — Теперь надеваем чулки на органы, носки на головы!
Тем двоим, голым снизу, было уже всё равно, и они попытались приладить к себе спадающие чулки.
— Хули стоим? — повторил дед, вглядываясь в меня с голодным любопытством, как в дупло, где мог быть медок.
— Я не буду, — выдавил я.
— Да ты что? — удивился он. — А почему?
— Носок не налезет на голову, — ответил я и разжал пальцы. Носок упал на пол.
Дед проследил его паденье взглядом, словно с его любимого дерева слетел последний тяжелый лист и вослед за этим теперь уже точно подступит полная, кромешная зима, ни меда не будет, ни яблок.
Никак я не ожидал от Верисаева, что он тоже возьмет и бросит свой носок, но не так как я — под ноги, а в сторону шепелявого, как перчатку.
Меня сбили с ног первого, а что сделали с художником, я не видел.
Крутясь под ударами в бок, в голову, в ноги, в голову, в бок, я стремился не оторвать лба от пола, наверняка зная, что черный носок мне сейчас же засунут в рот. Разве я смогу потом этим ртом разговаривать. Меня подцепили и потянули вверх за шею, за кадык, и почти что подняли, но тут я рванул зубами чью-то руку и сразу же, изловчившись, сделал на животе круг, чтобы пинавшие меня перепутались и какое-то время вновь переступали с ноги на ногу, приноравливаясь, как бы затоптать меня половчее.
Рядом грохотал и вскрикивал голосом Верисаева другой взъяренный и потный клубок.
Кто-то сел мне на спину и, надрывая мои уши, сдирая кожу с висков и шкуру с затылка, начал выворачивать то влево, то вправо мою башку так, чтоб показался, наконец, рот.
Шея надламывалась, затылок ныл, я не справился, голову вывернули, и сидевший на спине стал орать: «Где носок? Где носок?» — с такой страстью, словно я подыхал у него под руками и только черный носок в зубах мог меня спасти.
Но тут дневальный крикнул, что шухер, и я тут же остался один, легок и свободен, с гудящей, как улей, головой. По лицу текла кровь, и какое-то время, не поднимая лба, я то слизывал, то сплевывал ее.
Приподнявшись на руках, я увидел Верисаева, который кусками, как хорошо пережеванный, извлекал носок из красного, с надорванной губой, рта.
* * *Они гуляли на улице. Я встал ровно посреди детской площадки и, глядя налево, увидел его синюю рубашку, а присмотревшись вправо — ее желтое платьице.
Пацан всегда находился в гуще игры, а девочка держалась наособь; и хорошо, что не наоборот.
Он меня мог и не заметить, даже если б я час простоял, зато она примечала сразу.
Но тут пацан первый вскрикнул слово из двух одинаковых слогов, которое я тут же повторно сыграл на своем кадыке — так, что он съездил вверх-вниз, а потом завис как-то поперек дыхания.
Пока он бежал, мне казалось, что мои пятки прикипели к земле, а глаза полны струящимся горячим воздухом, словно за спиною что-то горит.
Он обнял правую ногу, я коснулся ладонью коротко остриженного детского затылка.
Зигзаг, совершенный синей рубашкой, изменил движенье воздушных течений на площадке, и девочка в желтом платьице почувствовала это щекой. Она не головой, а всем телом, перетоптывая ножками, развернулась к нам и тоже сорвалась с места, но уже молча.
Не добежав двух шагов, резко стала и, внимательно осмотрев меня, спросила:
— Ты домой нас заберешь?
Синяя рубашка тоже отстранилась, образовалась задранная вверх голова, и раздался повторный вопрос, но уже пацанячий:
— Домой пойдем сейчас?
— Домой? А? Домой? Нет! — ответил кто-то другой вместо меня, и кадык почему-то сразу встал на место.
— Почему нет? — спросила синяя рубашка, и брови на розовом лобике выстроились в странные линии.
— Почему нет? — спросило желтое платьице одними губами.
— Рано еще. Мама заберет, — произнеслось само собою, легко-легко.
«Куда ж я их заберу, — подумал почти радостно. — У меня и дома нет!»
В голове хорошо и бесстыже звенело, а зрение стало прозрачным и точным, оттого всё виделось в малых подробностях: крашенный в синее металлический забор, кустарник, кто-то нерадивый выбросил пустую пачку из-под сигарет туда — в детском-то саду, как нехорошо.
— Я ваш конструктор собрал, — вдруг совралось вслух.
— Которое ты сломал? — спросил у меня тот, что в синей.
— Которую ты сломал? — спросила та, что в желтом.
— Собрал, и, кажется, получилось, — соврал дальше, вроде как и не слыша вопросов.
Ноги сами собою понемногу пошли назад. Пятясь, я поднял ладони: и прощаясь, и одновременно как бы принося извинения.
В глаза этим двум не заглядывал: смотрел куда-то по-над головами.
Взмахнув руками еще раз, почти уже побежал к выходу, но успел, успел заметить, что у того, что в синеньком, разом мокрым наполнило глаза.
Зажмурившись, развернулся к ним. Почти не глядя, на ощупь, едва не наступив на постороннего ребенка, шагнул, шагнул, еще раз шагнул и настиг своего — уже направившегося к воспитательнице назад.
Встав на колено, зашептал ему в ухо:
— Когда больно — плачь. И никогда не плачь, когда обидно. Это разные вещи.
А ее мне нечему было научить.
Чтобы извлечь все детали конструктора, снял джинсы и вывернул карманы. Сгребал ладонью детальки в одно место, пытаясь ничего не потерять. Получились симпатичные разноцветные руины.