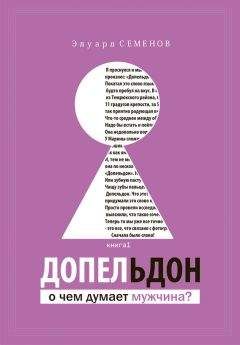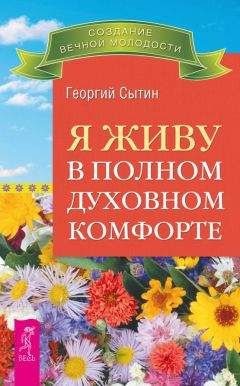Жан Каррьер - Ястреб из Маё
К несчастью, он и в самом деле родился раньше положенного и умер на третий день. Это произошло в прошлом году. Его похоронили в головах у дедушки — крошечная мумия — не крупнее освежеванного поросенка. И в качестве утешения доктор объявил, что больше детей у нее не будет. Чересчур стара, заскорузла, как то бесплодное черное жнивье, на которое месяцами не проливается дождь.
Осенние грозы сровняли с землей маленький холмик детской могилки, одновременно изгладив из памяти Мари недолговечную печаль, как если бы ее замужество, ее краткое материнство были не настоящими и ничего не сулили в будущем.
2
Когда он вернулся в тот вечер домой, еле волоча ноги, она объявила ему не без вызова в голосе, что родник почти совсем иссяк — едва приметную струйку облепили осы и бабочки, как в сильнейшую летнюю засуху, но все-таки ей удалось кое-как набрать воды, поглубже просунув в скалу деревянный желоб. Но чтобы нацедить одно-единственное несчастное ведрышко, пришлось, кусая ногти от нетерпения, ждать два часа. Был бы здесь хоть крытый резервуар, куда бы стекала вода, как в Мазель-де-Мор…
— О чем только думали твои предки!
Обозленный, он ничего не ответил; она пожала плечами и решила еще кольнуть его:
— Надеюсь, ты подстрелил что-нибудь?
Он гневно бросил ружье на стол:
— Ничего! Ничегошеньки!
На плато сколько угодно зайцев, резвящихся при луне, из-за них он и поднялся среди ночи, но охотиться с его самострелом — чистейшая химера.
Осенью, когда Абель валил лес и из его глубин доносилось эхо охотничьих выстрелов, он откладывал топор, с вожделением и завистью прислушиваясь к быстрым и четким щелканьям, которые, казалось ему, свидетельствовали о преимуществах современного охотничьего оружия. Ах, было б у него такое ружье, как у его тестя, этот чудеснейший «робюст» шестнадцатого калибра с двумя стволами вороненой стали. Ружье легкое, мощное, разящее, словно молния, — тогда бы попировали они в Маё!
Отодвинув ружье и поставив на стол супницу, Мари размешала всегдашнюю похлебку из молока с каштанами и начерпала ему его порцию.
— А пока, бедняга ты мой, Рейлан, довольствуйся затирухой, как довольствовались твой отец и твой дед. Однако сознайся, рисковать большим штрафом, чтобы вернуться с пустыми руками… Разве и без того мало у нас неприятностей? А если наткнешься на одного из этих государственных сторожей…
Он взревел и задубасил по столу.
Жилы у него на шее вздулись и почернели так страшно, что она предпочла умолкнуть и весь вечер была тише воды. Хоть он ни разу ее не ударил, она всегда была настороже: ведь неистовство таилось в большинстве мужчин, словно зверь, готовый прыгнуть, это-то ее всегда и пугало. Инстинктивно она противопоставляла его вспышкам ярости невозмутимое спокойствие, закаленное в домашних испытаниях.
На следующее утро, еще затемно, Рейлан спустился к роднику.
Родник находился приблизительно в километре от фермы — на полпути между нею и потоком; тут был жизненный центр Маё, его пульс, возможность существования; сюда некогда водили на водопой животных, в те незапамятные времена, когда воды в ручьях хватало с избытком, по крайней мере, так гласили предания, возвеличивавшие прошлое; женщины носили туда белье для стирки, а летом и сами совершали там омовения, натирая тело листьями мыльника. На несколько метров в длину тянулся тогда деревянный желоб, позеленевший и липкий (теперь он совершенно сгнил и местами порос травой), кишмя кишевший водяными насекомыми, за которыми охотились стрекозы; теплыми вечерами там всегда сидела древесная лягушка, откликавшаяся на гуканье лесной совы, — в ночной тишине они перекликались по просекам. Но с тех пор, как горные ресурсы начали, по всей видимости, иссякать — это, конечно, в том случае, если предания об их изобилии не были ложны, — приток воды стал ничтожным даже в период дождей, а в жаркие дни почти совсем прекращался; теперь же осталась лишь «слеза» на скале, капризная прерывистая струйка, такие струйки местные охотники называют «поскребками», только и годными змею приманить или же капля за каплей кружку наполнить, когда цистерна пуста.
Как бы то ни было, если погода не переменится, тут никакой воды не нацедишь; Абель сменил ведро, еще вчера подставленное Чернухой под желоб, на принесенную лейку и зашагал к потоку.
Высохшее русло потока белело среди деревьев, как кости скелета; с убылью воды солнце выжгло зеленую слизь на камешках, устилавших дно; то тут, то там питаемые подземными ключами бочажки с загнившей водой распространяли едкий запах тины и разложившихся растений.
Конечно, у него в памяти сохранились пыльные и жгучие, словно негашеная известь, летние месяцы, когда все спали под открытым небом — в доме совершенно нечем было дышать, а на деревьях с мая и до октябрьских гроз висели свернувшиеся от жары листья; но чтобы поток пересох так рано, этого Абелю еще не доводилось видеть. Задумавшись, вернулся он к источнику. Леса уже зарделись от утреннего солнца, небо несказанной голубизны было абсолютно чистым, воздух неподвижен, никакой надежды на дождь.
По дороге он остановился, чтоб прихватить ведро с водой, и заглянул в лейку, которую поставил под струю: за полчаса натекло не больше трех-четырех литров!
Если не пройдет хороший дождь в самые ближайшие дни, за водой придется ходить в Сен-Жюльен: восемь километров туда и обратно с пятидесятикилограммовой бочкой на расшатанной тачке; изо всех окон будут глазеть насмешники. Он сжал кулаки.
Всю ночь Мари слышала, как Абель вертится в постели, точно угорь. С первыми проблесками зари он встал и принялся возиться с чем-то в сарае; Мари тоже поднялась и, выглянув в окно, увидела, как он направляется к источнику, нагрузившись разными инструментами. Легкий туман овевал камни, предвещая жаркий день. Немного спустя она, в свою очередь, спустилась к источнику за водой и уже издали услышала удары заступа, разносившиеся в очистившемся от тумана воздухе.
Он решил устроить водоем, подобно тем, куда, обмазав их глиной, собирают дождевую воду для овец.
Она с удивлением глядела на вырытую им яму: уж не думает ли он, что она станет брать на суп и на стирку воду, кишащую головастиками?
— А чем я цемент разведу — об этом ты подумала?
Опустив голову, она обиженно удалилась.
Обломки наполовину вросшего в землю желоба ясно указывали, где нужно копать яму, — тогда верхний край водоема непременно окажется на уровне источника, находившегося в десяти метрах от этого места.
Абель выковыривал заступом прогнившие, заплесневелые куски дерева; с приятным звуком рвущейся ткани остатки досок отрывались от сплетения засохших корней и травы. На первом метре почва была песчаной и податливой. Дальше заступ с глухим стуком ударялся о скалу, но это был не монолит, а большие глыбы синего гранита, глубоко ушедшие в песок; между ними в их расщелинах шахтное кайло проходило с легкостью. Расшатав глыбу, Абель брал ее в руки и, напрягаясь из всех сил, поднимал и укладывал на краю ямы.
Время от времени появлялась Чернуха; с замкнутым, ничего не выражающим лицом, она наблюдала за его работой, так и не соблаговолив разжать губы.
Куда разговорчивее был его тесть, который тоже приходил посмотреть на работу. Теперь это был изможденный человек, он семенил мелкими шажками и подолгу не мог отдышаться.
— Ты прямо ас, — говорил он зятю. — Жаль, что твое жилище не на одном уровне с водоемом, тогда ты мог бы провести воду прямо в дом, как сделали это мои предки.
Глядя на худобу и темные круги под запавшими глазами тестя, Рейлан думал: «Жалко, что ты-то сам уже ни на что не годен». И с горделивым спокойствием ощущал свою богатырскую силищу.
В середине мая раза два-три прозвучали отдаленные громовые раскаты: они доносились откуда-то с запада, со стороны Обрака, Родеза или Альби. Но ветер разгонял тучи, не дав им пролиться, и свинцовые их громады медленно уплывали за горизонт. По утрам в окнах отражалась все та же невозмутимая лазурь.
Рейлан вошел во вкус своей работы землекопа: руки его двигались почти в том же ритме, что и во время рубки леса, когда от каждого удара его топора дерево содрогалось до самой верхушки.
Он трудился с самого раннего утра — удары кайла звонко разносились в чистом воздухе. Невзирая на ранний час, небо начинало белеть и раскаленный солнечный диск свирепо дрожал и маслянисто растекался.
К середине дня Абель делал перерыв, чтобы пожевать каштанов и запить их шипучим вином, бутыль которого ему время от времени приносил в подарок его тесть; в этот час молочное варево медленно наползало с юга или с запада и словно бельмом затягивало огромный зрачок неба, которое, заволакиваясь, становилось похожим на матовое стекло, куда более слепящее, чем солнце. Тогда весь амфитеатр погружался в молчание, не стрекотал ни один кузнечик, не вспархивала ни одна птица, только и было слышно, как вода из родника по капле сочится в ведро. Подняв голову, Рейлан видел иногда сарыча или ястреба, которые со странной медлительной важностью угрожающе кружили в вышине. Абель потихоньку откладывал кайло, хватал самострел, всегда лежавший рядом с ним в траве, и долго прицеливался. Мягкий горячий воздух почти целиком поглощал смачный щелчок выстрела, едва отражаемого горным массивом. Но хищная птица, казалось, не обращала никакого внимания на выстрелы и разве что нехотя и даже презрительно меняла орбиту полета, словно бы понимая, что черный порох, употребляемый Рейланом, не может вытолкнуть пулю из переделанного старого «шасспо» на требуемую высоту. Можно было отчетливо рассмотреть узкую подвижную головку этой воинственной птицы, как бы не зависящую от туловища и от размаха крыльев; она возвышалась над корпусом, как наблюдатель над корпусом планера. «Подлюга», — кричал Рейлан и швырял в траву ружье, проклиная одновременно и его ветхость, и нагло невозмутимую птицу, которая продолжала выписывать безупречно точные круги на умопомрачительной высоте.