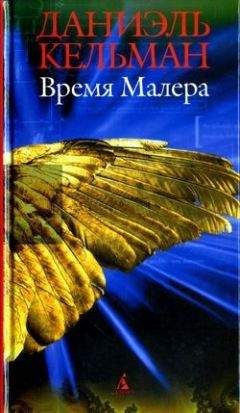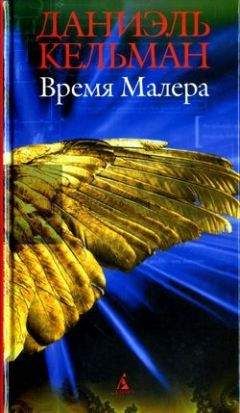Даниэль Кельман - Последний предел
8
Бретон Андре (1896–1966) — французский писатель и художник, основоположник сюрреализма, создатель теории «автоматического письма».
Под влиянием психоанализа Фрейда разработал так называемый метод свободных ассоциаций, в воплощении которых должно заключаться создание стихотворения. Полагал, что истинная поэзия выходит за рамки рассудочных представлений, подчеркивал галлюцинаторно-сновидческое начало поэтического творчества, пытался интегрировать в поэзию бред, словесные ассоциации безумцев. Занимался проблемами художественного языка. По мнению Бретона, истинный поэтический язык способно создать лишь воображение сновидца, наделенного эзотерическим знанием.
9
«Прохожий влек за собой свой расплывающийся силуэт, горы поглощало месиво облаков, башня… делалась прозрачной под напором слишком яркого фона, проступающего сквозь ее контуры… окно оказывалось солнечным бликом, деталь… каменной кладки превращалась в причудливой формы облако…» — Трудно сказать, существуют ли реальные «прообразы» пейзажей Каминского, где все предстает внимательному зрителю не тем, чем казалось на первый взгляд.
Можно предположить, что отчасти они навеяны работами голландского художника Маурица Корнелиса Эшера (1898–1972), знаменитого своими графическими размышлениями на темы бесконечности, пустоты, мнимости видимого. Хотя Эшер, в отличие от Каминского, предпочитал технику черно-белой гравюры, его не слишком занимало колористическое решение. На гравюрах Эшера 1930–1960-х гг. «Бельведер», «Восхождение и спуск», «Другой мир», «Водопад», «Дом лестниц», «Рисующие руки», отличающихся странной, завораживающей орнаментальностью, причудливо искажаются пространственные отношения, зримая действительность обнаруживает свою призрачность и оказывается чем-то напоминающим ленту Мёбиуса: вода течет по кругу вниз и вверх, лестницы образуют таинственный круг вне и внутри здания, незаметно для зрителя нарушается перспектива, загадочные замки предстают словно бы в кривом зеркале, одна рука, вырастающая из пустоты белого листа, рисует другую, также порожденную белоснежной плоскостью листа и в свою очередь рисующую первую, словно бы замыкая круг.
Вместе с тем очевидно, что ни реально существовавший Эшер, ни вымышленный Каминский, с их обостренным вниманием к оптическим иллюзиям и мнимой безжизненности неодушевленных предметов, не пренебрегли опытом голландских художников XVII в., работавших в жанре «trompe l’oeil» — картины-обманки. Наиболее любопытные образцы подобных картин-натюрмортов, писавшихся, как правило, на деревянной доске и производящих эффект объемного трехмерного изображения, оставил Самюэль ван Хогстратен (1627–1678). В своих натюрмортах-обманках, чаще всего изображающих принадлежности живописца, Хогстратен добился удивительного воспроизведения почти осязаемой фактуры ткани, волосков кисти, пористой губки, выпуклых головок гвоздей, якобы вбитых в поверхность доски.
Кроме того, и Хогстратен, и его современники Вермеер, Питер де Хох (1629–1684) и Карел Фабрициус (1622–1654) экспериментировали с построением перспективы при помощи «камеры-обскуры», мастерски используя в своих жанровых и пейзажных работах необычные композиционные эффекты. Пожалуй, в этом смысле наиболее близок Каминскому ученик Рембрандта и учитель Вермеера Карел Фабрициус, автор на первый взгляд реалистических, странных, завораживающих полотен с загадочной, «сновидческой» перспективой, созданной при помощи особых выпуклых линз в «камере-обскуре» и обособления переднего и заднего планов, — «Вид Дельфта с лавкой музыкальных инструментов» (1652), «Караульный» (1654). Видимо, описанные здесь в романе картины Каминского точно так же убаюкивали воображение неискушенного зрителя мнимой традиционностью, чтобы затем ошеломить медленно проступающей из-под спуда конкретных деталей иллюзорностью.
Кроме того, не исключено, что «прототипами» пейзажей Каминского послужили работы англо-израильского художника, выходца из России Исраэля Зохара (р. 1945) — автора задумчивых и тонких портретов, часто обращавшегося к сюжетам и живописным приемам старых мастеров. В 1970-е гг. Зохар показал балансирующий на грани искусства и китча и вызвавший неоднозначную реакцию критики цикл под названием «Отражения: дань памяти Вермеера» (курсив наш. — В. А.), в котором представил картины знаменитого дельфтского живописца, словно бы раздробив их на отдельные детали и собрав заново, как цветные стеклышки калейдоскопа, в сочетании с подробностями своих собственных пейзажей.
10
Ольденбург Клас (р. 1929) — американский художник шведского происхождения, представитель поп-арта, автор объектов и инсталляций из различных материалов, муляжей из скоропортящихся продуктов питания и тому подобных произведений в жанре «визуального искусства» («Гигантская трубочка мороженого», «Гигантский комплект мягких барабанов», «Мягкая пишущая машинка», «Гигантский тюбик губной помады на гусеницах», установленный в кампусе Йельского университета), композиций из антропоморфных картонных фигур. Один из зачинателей проведения хэппенингов. Легко вообразить, как относился к его творчеству Каминский.
11
«…переплетающиеся потоки, в которых, стоило чуть отойти от картины или прищуриться, внезапно обнаруживались дотоле скрытые широко раскинувшиеся ландшафты: холмы, деревья, свежая трава под летним дождем…» — Последние двенадцать ярких, написанных темперой картин Каминского напоминают пейзажи японских художников, испытавших влияние дзэн-буддизма и разрабатывавших его эстетику, в частности таких, как Сэссон (1504–1589), Хасэгава Тохаку (1539–1610), позднее художники и поэты Мацуо Басё (1644–1694) и Ёса Бусон (1715–1783). Запечатлевая в соответствии с канонами дзэн-буддизма мгновенное состояние бренного видимого мира, заключенного в беспредельном пространстве, перечисленные художники создавали возвышенные и лаконичные пейзажи с громоздящимися в облаках или теряющимися в тумане горами, одинокими деревьями, проступающими из прозрачной дымки. Правда, в отличие от Каминского, они чаще пользовались тушью и тяготели скорее к монохромным композициям. Тем не менее лаконично-эскизный, скупой стиль композиций, нарочитая невыписанность деталей и недоговоренность целого, прием письма насыщенной влагой кистью, оставляющей мягкие размывы, на первый взгляд случайные потеки краски или туши, создающие воздушную дымку и глубину пространства, почти ничем не заполненный, «пустой» фон, благодаря которому пейзаж словно бы «скрадывается» бесконечностью и даже иногда не сразу узнается, позволяет говорить о том, что описанные в романе последние пейзажи Каминского сродни японским.
(Кстати, внешность Каминского, крошечного и невзрачного, его эксцентричная манера поведения — сочетание безумия, может быть нарочитого, и лукавства — напоминает святых, как их принято изображать в традиции дзэн-буддизма.)
Предположение, что последние пейзажи Каминского навеяны японской живописью, кажется не столь уж фантастическим, если вспомнить о том, что увлечению японским искусством отдал дань один из названных в тексте романа прототипов Каминского — Бальтюс.
12
Бальтюс (вар.: Бальтус, наст. имя — граф Бальтазар Клоссовский де Рола, 1908–2001) — известный французский художник.
С детских лет увлекался живописью; за его успехами пристально следил знаменитый поэт Райнер Мария Рильке, поощрявший его первые опыты, подобно тому как Рихард Риминг в романе покровительствует юному Каминскому. Рильке написал французский текст к первой увидевшей свет серии рисунков тринадцатилетнего художника, посвященных загадочной природе кошек, и предложил ему псевдоним Бальтюс, под которым он впоследствии получил признание.
Ранние картины Бальтюса напоминают ранние символистские опыты Каминского: в частности здесь можно вспомнить о написанной Бальтюсом в 1922 г. картине темперой «Рыцарь, ангел и конь», навеянной «Явлением ангела рыцарю Штреттлингенскому» Пьеро делла Франчески (впрочем, интерес Бальтюса к творчеству таких мастеров итальянского Возрождения, как Пьеро делла Франческа, Джотто, Мазаччо, Паоло Уччелло, не ослабевал и впоследствии, когда он пережил юношеский период подражаний). В начале своего творческого пути во Франции он испытал влияние Пьера Боннара и Анри Матисса.
К 1930-м гг. создал собственный стиль. На протяжении всей жизни оставался приверженцем «предметной» живописи (хотя Каминский стал бы возражать против этого определения), отдавая предпочтение жанру обнаженной натуры и портрета.
Для картин Бальтюса характерна странная, тревожная «срежиссированность», их персонажи словно бы застыли в таинственных мизансценах, вырванных из сценического действия, точный смысл которого ускользает от зрителя. Бытовые сюжеты у Бальтюса словно преломляются в кривом зеркале, обретая непонятную напряженность. Его первым большим успехом стала жанровая картина 1933 г. «Улица» (с напоминающими манекены персонажами, отрешенно бредущими по узенькому переулку), как ни странно, вызвавшая восторг сюрреалистов, хотя, казалось бы, творческий метод Бальтюса, как и предметное искусство вообще, сюрреалистам должен был быть чужд (еще одна черта творческой биографии, роднящая Бальтюса и Каминского). С этого времени к Бальтюсу приходит известность, им восхищаются Жан Кокто, Альбер Камю, Брак, Пикассо, Альберто Джакометти, Федерико Феллини, его выставки получают благосклонные отзывы критики.