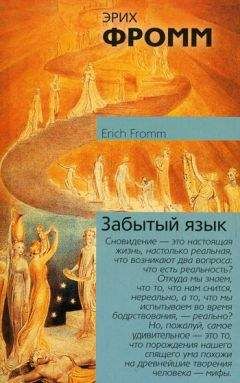Эрих Кош - Избранное
По своим человеческим качествам Данило лучше ее. Добряк (что всегда звучит полунасмешливо), достаточно ленивый и непредприимчивый, чтобы самому причинять зло, он в то же время слишком апатичный и безвольный, чтобы оказывать ему сопротивление или против него бороться. По своим физическим данным он относится к распространенному типу наших равнинных жителей — среднего роста, с широкими, но опущенными плечами, круглоголовый и плотный, с тяжелой размашистой походкой, а по духовным больше всего напоминает известный типаж народных присказок, Лалу, простоватого тяжелодума.
В качестве газетчика он мог бы быть на месте в какой-нибудь экономической или парламентской рубрике, где требуется изложение уже написанного и подготовленного материала и где медлительная основательность работы ценится гораздо больше скоропалительной оригинальности. Его же участь между тем определило, теперь уже, должно быть, бесповоротно его погубив, то обстоятельство, что, прибыв в Белград с войны из бригадного культотряда, он вбил себе в голову, что должен посвятить себя работе на культурном поприще, тем более что сразу после освобождения ему пришлось принять участие в съемках отдельных фронтовых эпизодов в качестве второго помощника режиссера, вследствие чего имя его несколько раз мелькнуло в титрах кинолент. Таким образом, в некотором роде он оказался заслуженным ветераном нашей кинематографии в ту самую пору, когда никто из нас понятия не имел о том, что такое кино. Потом он взялся было за какие-то сценарии, подвизался в документалистах, но, раздосадованный и уязвленный, вынужден был осесть в газетной кинополосе, негодуя на молодых счастливцев, в глаза не видывавших камеры, в то время когда он ходил уже в маститых и имя его красовалось в программах международных кинофестивалей. Со своим положением он между тем не мирился. Ожидая лучших времен и своего урочного часа, Данило мечтал о возвращении в большой кинематограф и из безопасной засады своего киноотдела читал мораль другим, а сам все те годы, что я его знал, трудился над сценарием и режиссерской разработкой по роману одного нашего известного писателя. Не знаю, всерьез ли он еще считал себя способным создать фильм на избранном им материале, но зато ничуть не сомневаюсь, что, когда бы мы ни встретились впредь, он не упустит возможности, разругав сначала в пух и прах практику и продукцию нашей кинематографии, зачитать нам очередной отрывок из сценария, который он без устали дописывает, изменяет и никак не закончит, и изложить план режиссерской разработки, одновременно им подготовляемой, а также перечислить имена актеров, намеченных им для съемки в фильме, и известить нас о том, что снова поднял вопрос о дотации и сумел заинтересовать некую иностранную кинопромышленную фирму. А потом опять обрушиться на своих коллег и более удачливых соперников.
— Теа, ты смотрела этот фильм и можешь судить объективно. Скажи, не самая ли это невероятная бессмыслица из всего, что мы видели за последнее время на наших экранах? — призывал он в свидетели жену, и мы, хотя и не абсолютно в этом убежденные, должны были невольно соглашаться. Мне это иногда надоедало, и, поддавшись искушению, я начинал ему возражать, но Рада тотчас же меня пресекала.
— Зачем ты с ним связываешься! — принималась она меня вразумлять, едва только за ними закрывалась дверь. — Ну что тебе до этого, скажи! Ты же знаешь, что кино его больное место. Вы опять чуть не разругались.
— Не могу я больше терпеть такой некритический подход к себе и другим. Совершенно случайно я видел этот фильм, и он, представь себе, мне понравился. Не напрасно же он получил столько наград и похвал от критики. Нельзя любой успех приписывать одним только интригам, заговорам, протекции и обнищанию вкуса. И наконец, я сам читал несколько вариантов этого его пресловутого сценария и ничуть не удивлен, что сценарий опять отклонили. Я с самого начала был убежден, что ничего путного из его затеи не выйдет, и лучше всего мне было бы сразу ему об этом сказать. По-дружески. Он бы не потратил понапрасну столько времени, помимо того, что я бы уберег его от новых разочарований и огорчений.
— Еще чего не хватало! Ты бы его смертельно оскорбил, и он бы тебе этого никогда не простил. Оставь ему его иллюзии, раз они доставляют ему удовольствие. У каждого свои пункты, а его к тому же не худшего толка и никому, кроме самого Данилы, не приносят вреда. Надо принимать людей такими, какие они есть. Послезавтра, когда мы увидимся, пожалуйста, постарайся загладить как-нибудь сегодняшнюю размолвку.
И я послушно выполнял ее просьбу, при первой же встрече объявляя ему, что долгое время размышлял над ключевой сценой его сценария и убедился окончательно, что удар ножом и падение героя с бетонной дамбы гидростанции действительно было бы великолепным решением финала.
— Ни в коем случае! — к моему полнейшему недоумению восставал он между тем. — Я и сам об этом много думал и пришел к заключению, что такой конец был бы слишком натянутым, помимо того, что этот прием уже использован в других фильмах. Нет, лучше всего, чтобы инженер погиб на сталеплавильном заводе от того, что на него неожиданно опрокидывается ковш с кипящим металлом. Вот это было бы эффектно! Особенно если сделать фильм цветным.
И так далее. Начинаются нескончаемые рассуждения, но я, наученный горьким опытом, только поддакиваю, и это продолжается до тех пор, пока Теа, первой потеряв терпение, не призовет к порядку мужа:
— Побойся бога, Данило! Оставь человека в покое. Ты его совсем замучил, он засыпает уже. Пошли, и нам пора.
На том они уходят, и снова все забыто и улажено. Если же случалось повздорить Раде с Теей или мне вспылить, какая-нибудь добрая душа из нашего кружка всегда возьмется за посредничество и вступится за провинившегося, как будто бы беря его под родительскую опеку.
Бывало, например, сплутует в карты Теа, и в игре не любившая оставаться в накладе, так что даже Рада — олицетворение терпимости и доброты — возмутится всерьез.
— Я и так на многое смотрю сквозь пальцы, — возражает она на мои уговоры, — но ведь нельзя же совершенно беззастенчиво мошенничать и из меня же делать идиотку. Главное не в деньгах, подумаешь, тоже мне сумма. Просто ее наглость выводит меня из себя.
Тут уж я беру на себя примирительную роль, всячески стараясь смягчить Раду, что, впрочем, в случае с ней достигается без особого труда. Используя ее же собственные выражения и доводы, я начинаю ей доказывать, что есть гораздо более существенные недостатки и людей надо принимать такими, каковы они есть, со всеми их достоинствами и слабостями, а все же достоинства в Тее перевешивают. Пусть она вспомнит, как в первый год нашего знакомства Теа самоотверженно возилась с Дацей, когда девочка разболелась летом и Теа, не щадя себя, дежурила возле нее ночью и даже ездила в Сплит доставать для нее необходимые лекарства. А тут, не далее как на днях, когда Раде взбрело в голову, что у нее рак, — с какой готовностью Теа обегала с ней все больницы и добилась приема у лучших врачей, чтобы ее обследовать и успокоить. Не говоря уже о прочих услугах, особенно по части устройства нашей квартиры и выбора нарядов для нее и Дацы. Нельзя же принимать всерьез мелкие размолвки, неизбежные даже у супругов. Существо дружбы в том и состоит, чтобы прощать друзьям то, что остальным не прощается. И все в таком же духе.
Однако на этот раз моя жена рассердилась всерьез и, хотя знала наперед, что в конце концов уступит, все же престижа ради ни за что не хотела сдаваться без боя. Она должна была по меньшей мере высказать все, что накипело у нее на сердце.
— Допустим! — признавала она. — Но каждый врач на ее месте повел бы себя точно так, просто из гуманности и соображений медицинской этики. — Что же касается остальных одолжений — так это самая малость, какую только могут оказать приятели и вообще знакомые друг другу. И потом, разве она, Рада, не помогала бесконечно Тее, в особенности с ее Лидой, которая ни за что бы не закончила среднюю школу, если бы и летом, в самую жару, она, Рада, не продолжала заниматься с ней, готовя ее к переэкзаменовке и чуть ли не собственноручно написав за нее сочинение. А разве он не помнит, как она обхаживала своих коллег, к которым по поводу собственных детей никогда не обращалась. Что же касается хозяйственных услуг, тут уж она, Рада, перед Протичами не в долгу, так как ежегодно покупает им через своих, в деревне, дешевый провиант, за который они ей, кстати говоря, по сей день не вернули деньги. И потому она не намерена терпеть такое отношение к себе и по крайней мере некоторое время не желает с ними видеться.
На том она и отвела свою душу, и, когда на следующий день Данило позвонил мне и сообщил, что он и на нашу долю достал билеты на один заграничный фильм, получивший первые награды на нескольких фестивалях, но который до сих пор на экраны у нас не пускали и неизвестно, собирались ли вообще пускать, я сразу согласился, и Рада, когда я ей сказал, тоже не протестовала, так как вечер у нее был свободный, а кино — самая ее большая страсть. Мы встретились с Протичами перед сеансом, как будто между нами ничего и не было, и только на лице Рады проглядывала некоторая напряженность. После фильма зашли в клуб работников просвещения, прекрасно поужинали и провели вечер на редкость тепло и приятно. Теа была в хорошем настроении, даже немного выпила, что вообще не часто себе позволяла, расспрашивала про наших детей, поддержала меня в некоторых суждениях и взглядах, сделала Раде комплимент по поводу ее нового платья, а когда мы пошли домой, подхватила ее под руку и увлекла за собой, болтая о каких-то своих женских делах. Было очень хорошо, что у нас такие друзья.