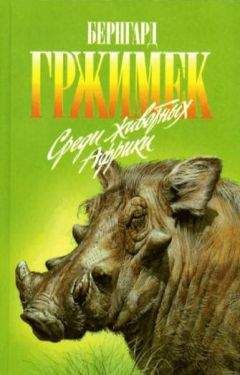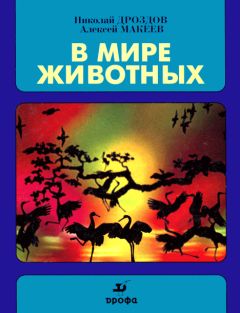Александр Проханов - Шестьсот лет после битвы
Они стояли перед громадой реактора, готового улечься в глубокое бетонное лоно. Принять в себя огнедышащий груз. Вагапов глядел на жену, на ее накрытый руками живот. На близкого, нерожденного, но уже живого желанного сына. Чувствовал, что слепым беспощадным стихиям есть предел. Что в мире присутствуют доброта, красота, тихая женственность. И они не могут погибнуть. Он, Михаил, изведавший смерть, потерю друзей, жестокий, сокрушительный опыт, он, Михаил, не даст им погибнуть.
Он провел шлифмашинкой, срезая видение, свертывая его в маленький огненный вихрь. Кругом рокотала станция Мерно, колокольно ухал металл. Визжали, скрипели сверла. Трещала сварка. Шипели языки автогена. Урчали моторы поворотного крана. И среди множества режущих, долбящих и плавящих звуков, неразличимые в огне и железе, звучали голоса людей.
Вагапов сменил абразивный круг. Отдыхал, расслабляя усталые мускулы. Ежился, спасаясь от холода. Выискивал за реактором место, куда бы не доставал сквозняк. Готов был включить машинку, когда увидел проходивших мимо сварщиков. Тянули кабель, несли электроды, держатели. Среди сварщиков брат Сергей.
— Сережка!! — окликнул Михаил. — Заходи в гости!
Брат улыбнулся шутке. Приблизился, держа под мышкой пакет с электродами. Стоял, переминаясь, худой, тонкий, с землистым лицом. Михаил, оглядывая его худобу и бледность, тревожился о нем. Испытывал к нему чувство, в котором была привычка повелевать и командовать, уходившая в детство, нежность, неразлучность с братом, обращенность туда, в сырые луговины, где стояла деревня, и их дом, черный, выше соседских, чуть осевший на угол, и ветвистый, со скворечником тополь, и мать идет с огорода с ворохом укропа и лука.
— Что ты бледный такой все время? Будто мало ешь! — придирчиво, недовольно сказал Михаил. — Тень ходячая!
— Да ну, ерунда! — отмахнулся Сергей, тяготясь этой опекой, но и смиряясь с ней, привыкнув смиряться.
— Не ерунда! К врачу ходил? Ты теперь должен регулярно к врачу ходить! А ты не ходишь!
— Да здоров я. Я же чувствую, что здоров.
— Кровь сдавал па анализ? Тебе кровь нужно каждый месяц сдавать.
— Да сдавал. Все нормально, Миша.
— Белый, значит, крови мало, — продолжал придираться Михаил. — Значит, белая кровь. Я же помню, ты был как свекла! Всегда ты был как свекла. А теперь белый!
— Сейчас зима, вот и белый. А летом опять серым стану. Я ведь — Серый. Так меня зовут! — пошутил Сергей. Но шутка вышла неуверенной, брат ее не воспринял.
— И какой-то скушный стал! Все думаешь о чем-то. Все что-то па ус мотаешь. Вон Николай Савельевич мне говорил — каждую ночь во сне кричишь!
— И ты кричишь. Лена говорила — кричишь.
— Я-то знаю, чего я кричу! Я командую!.. Наступаю, отступаю!.. «Духов» в плен беру!.. А вот ты кричишь отчего? Ни за что не добьешься.
— Уж я не помню, что снится, — неохотно, страдая от расспросов брага, сказал Сергей.
— Да уж, наверное, Чернобыль твой снится, как ты в реактор нырял. Рыбкой или солдатиком? Как, говорю, нырял-то?
— Солдатиком, — усмехнулся Сергей. — Мы все солдатиками ныряли. Ты — в ущелья, а я — в реактор.
— Я сержантиком в ущелье нырял! — на этот раз поддержал шутку брата Михаил. Посмотрел на него, долго, пристально.
Брат вернулся из армии, из войск химзащиты, побывав на украинской аварии. Гам, на аварии, работал в радиационном поле. В нем оставил свою веселость, румянец, свой громкий открытый смех, бесконечный, до оцепенения, до слез, когда сидели на лавке, рассмеявшись на какую-то малость, хохотали, поддерживая друг в друге это непрерывное состояние смеха, так что проходившие мимо соседи сначала сердито цыкали, а потом и сами начинали смеяться. Мать выскакивала из калитки узнать, что за смех, что за гогот, и тоже начинала смеяться.
Казалось, Сергеи оставил там, у реактора, часть своей жизни и молодости. Что-то покинуло его навсегда, свежее, яркое, сильное. И что-то в нем поселилось — долгая, бесконечная, не имевшая имени мысль. Одна и та же и днем и ночью. Он все время думал о чем-то. Иногда неожиданно у него появлялись слезы в глазах. Не текли по щекам, а вдруг переполняли глаза и, постояв, исчезали. Уходили обратно вглубь. В такие минуты Михаилу хотелось обнять его, прижать к себе, от чего-то заслонить. Или растормошить, нашуметь на него, отвлечь. Потащить его па танцы или назвать гостей, бестолковых и громких. Или собраться в деревне у матери, где все родное, все милое, все исцеляет — и хворь, и тоску, и немощь.
Михаилу казалось, в брате было что-то от того ленинградца Еремина. В обоих беззащитность и хрупкость. Оба нуждались в его, Михаила, защите.
— Жениться тебе надо, — сказал Михаил. — А ты сидишь, книги читаешь, глаза дырявишь. Найди себе девчонку! Женишься, квартиру получишь. Ребенка родишь, сразу поймешь, что к чему. Здесь, на станции, нам работы на двадцать лет хватит. За вторым третий блок пустим. А там — четвертый. А там, глядишь, и пятый, шестой. Здесь с тобой приживемся, до старости будем жить!
— Нет, — сказал Сергей. — Второй блок пустим, и я уйду.
— Куда?
— Не знаю. Куда-нибудь. Или на Север, на нефть, трубы варить. Или на корабль наймусь, на Сахалин, рыбу ловить. Или на Кавказ уеду. Там, говорят, заповедник есть — сторожем, лесником поработаю. Еще не знаю куда.
— Да что ты надумал! Дурость! Тебе здесь плохо работать? Вместе, рядом! Чуть что, друг другу поможем. Зачем тогда на станцию было устраиваться? Ведь я за тебя просил, хлопотал. Зачем было на стройку идти?
— Да я еще в Чернобыле, когда на блоке работал, решил, что приеду на стройку. Посмотреть, как она, станция, строится, если потом взрывается. Хотел увидеть, какой он такой, реактор, над которым мы с совковой лопатой бегали и графит подбирали. Ну вот и посмотрел, и хорош! А теперь другое смотреть хочу. Как в других местах люди живут. Какая она, жизнь-то, у нас. Поезжу, пока молодой.
— Дурость! — рассердился Михаил. — Что тебе на чужую жизнь смотреть. Надо свою заводить. Жениться, работать, детей растить.
— Вон Фотиев Николай Савельевич всю жизнь ездит. Все смотрит, исследует. Вот и открыл закон. Я тоже хочу свой закон открыть.
— Да Фотиев-то образованный, ученый! Вот и открыл закон. А ты?
— Я тоже учиться буду. Фотиев мне списочек книг написал, какие нужно прочесть. Я уже начал. Буду ездить, на жизнь смотреть и учиться. И может, открою закон.
— Дурость все это! — продолжал раздражаться Михаил. Но чувствовал, брат от него удалился и его не достать. Он уже тронулся, пустился в дорогу. Еще здесь, рядом с ним, но уже удаляется, уходит в свой путь.
— Вагапов!.. Серый!.. Вагапов, младший! — позвал издали слесарь, перекрывая гулы и рокоты зала. — Чего застрял? Иди вари!
Сергей обрадовался этому зову. Виновато и тихо улыбнулся брату. Пошел, унося под мышкой пакет электродов.
Михаил пустил шлифмашинку. Приблизил к стенке реактора. Сияющая стальная поверхность была той прозрачной преградой, что отделяла сегодняшний день от другого, давнишнего. Шагни вперед, сквозь прозрачный блеск, и ты — в тех горах.
Его окликнули, отвлекли. Рядом стояли главный инженер Лазарев, бригадир Петрович и женщина, кажется из профкома, — Михаил будто видел ее однажды, заглянув на минутку в профком. Все трое подошли к калориферу, трогали его бездействующие конструкции. Монтажники издалека, не прерывая дела, наблюдали за ними.
— Я и так вижу, что он холодный. Работает в режиме холодильника. — Лазарев вынул из кармана свою маленькую белую ладонь, подержал у калорифера. Отвел в сторону, подставляя под сквозняк, и снова спрятал в карман. — Ну, а кто здесь замерз? Ты, что ли, замерз? — Он повернулся к Михаилу, дружелюбно его оглядывая, смеясь своими выпуклыми темными глазами. — Такой молодой — и замерз!
Михаил, не выключая машинку, молчал. Смотрел исподлобья на Лазарева. Испытывал к нему неприязнь. За маленькую, слишком чистую ладонь, на мгновение мелькнувшую и снова пропавшую в кармане. За эту нерабочую позу, руки в карманы, неуместную здесь, где все руки были наружу, в работе. За легкомысленную насмешку над ним, мерзнувшим в сквозняке. За дорогой, теплый воротник из выдры, который выбивался из-под белого, небрежно, ненадолго наброшенного халата. За весь его облик, возникший как помеха, перебивший больные, драгоценные мысли, ускользавшие видения, что являлись ему в работе. И Вагапов угрюмо смотрел, держа жужжащий, вибрирующий инструмент.
— Да выключи ты ее! — поморщился Лазарев. Дождался, когда машинка умолкнет, и снова вернул на лицо насмешливо-дружелюбное выражение. — Знаешь, есть один способ согреться. Экстрасенсы его применяют. Пусть мороз трещит, птица на лету замерзает, а ты представь себе, что лето, зной, жара, ты где-нибудь на пляже, на Черном море, и тебе сразу жарко станет. Начнешь раздеваться. Это есть такой метод самовнушения. Экстрасенсы его применяют.