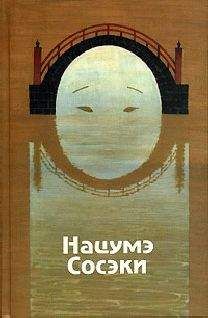Жан Жубер - Красные сабо
— Ну, что хорошего на заводе? — расспрашивала она. — Как настроены рабочие?
— Все бурлит. Конечно, мы против «Боевых крестов», но и правительству больше никто не верит. Блюм и Народный фронт — вот что нам нужно.
Отец принимался сворачивать сигарету, Жермена помешивала суп, а из лавки доносились пылкие речи и громкие возгласы.
В нашей кухне на этажерке стоял радиоприемник, маленький черный ящик с батарейками и проводом, ведущим к антенне, стоявшей в саду. Когда его включали, он сперва извергал из себя хрип, скрежет и свист, потом, по мере настройки, звук очищался, переходя в голос — чуть гнусавый и таинственный. Если передавали музыку, нам с матерью еще разрешалось разговаривать, но вот начинались последние известия и — боже упаси было раскрыть рот! Отец сидел, приложив ухо к репродуктору, при малейшем шорохе со стороны раздраженно грозил нам и по окончании недовольно вздыхал и хмурился:
— Плохо все это кончится!
— Что там еще? — спрашивала мать, которая за приготовлением ужина ничего не слышала.
Отец говорил о Даладье, Кьяппе, Муссолини, Гитлере. Имя «Муссолини» страшно веселило меня. Шла зима 1934 года, и мне еще не было шести лет. Отец жадно от начала до конца выслушивал новости, вид у него был крайне встревоженный, по его мнению, мир сошел с ума.
Я спрашивал:
— А что такое «Муссолини»?
— Это вождь итальянцев, — шепотом говорила мать.
— Итальянцев?
Отец кричал:
— Господи, да помолчите вы!
Впрочем, все это меня мало интересовало. Мне становилось скучно, и я спрашивал у матери:
— Рассказать тебе уроки?
Мы оставляли отца, с маниакальным видом внимающего треску и писку приемника, и уходили в столовую. Там мы усаживались рядышком на кровать, мать открывала учебник, клала его на колени, и я единым духом выпаливал что-нибудь вроде: «Наши предки галлы были белокурыми и голубоглазыми. Они жили в хижинах. Их священники назывались друидами, своими серпами они срезали ветки омелы и украшали ими священные дубы» или же: «Король Генрих IV решил, что у французов по воскресеньям будет курица в горшке, и французы были очень довольны». Иногда мать поправляла меня: «У всех французов», ведь, чтобы получить хорошую отметку, требовалось пересказать текст слово в слово.
— Ну молодец, — говорила она, когда я замолкал. — Это ты выучил. Завтра утром, когда встанешь, перечитаешь еще разок.
Потом я разглядывал картинки в учебнике: Верцингеторикс на лошади, со своим щитом и висячими усами; крестьяне за столом вокруг горшка с той самой знаменитой курицей, а в рамочке над ними развеселое лицо короля Генриха. Все они казались мне гораздо более реальными, чем какие-то Даладье и Муссолини.
Как-то вечером отец ворвался к нам в столовую:
— В Париже дерутся! Двадцать человек убито, сотни раненых…
— Но кто же?
— «Королевские молодчики» напали на солдат национальной гвардии. Хотели захватить Палату депутатов!
В газетах замелькали крупные черные заголовки и фотографии: каски, ружья, а вот какая-то странная масса на тротуаре, похожая на неряшливый сверток одежды, из которого торчит окостеневшая рука — значит, это мертвец. Стояла зима. В заледеневшем саду хозяйничали целые полчища голодных дроздов. По утрам, когда мы вставали, на улице было совсем темно, лишь позже медленно, словно нехотя, поднималось в морозной дымке мутно-красное солнце. Сыпал снег, за его пеленой заводские сирены звучали как-то приглушенно, прохожие шагали медленней и осторожней, свежая белая пелена поскрипывала под ногами и шинами велосипедов. По мне, лучшей погоды и быть не могло. Я выбегал во двор, лепил снежки и, запрокинув голову, широко раскрывал рот, ловя снежинки, таявшие у меня на языке.
Однажды февральским вечером «королевские молодчики» устроили свое сборище прямо здесь, в двух шагах от рабочего поселка. Перед залом, где они собрались, столпились возмущенные манифестанты, их становилось все больше и больше, толпа затопила всю улицу, напирала на полицейский кордон, с трудом сдерживавший ее.
Особенно много пришло железнодорожников и заводских рабочих, в спецовках, в каскетках, сдвинутых на затылок, некоторые из них приехали на велосипедах, другие пришли пешком. Зал уже почти наполнился. Иногда какой-нибудь опоздавший протискивался мимо полицейских, предъявив им пригласительный билет, и торопливо взбегал по ступенькам под улюлюканье толпы. Охранники, выставленные «королевскими молодчиками», — здоровенные громилы с серыми нарукавными повязками — стояли по обе стороны двери, кидая на толпу свирепые взгляды. Но и они начали проявлять беспокойство по мере того, как толпа манифестантов росла и сильнее напирала на цепь полицейских, которые медленно отступали. Из гущи толпы неслись крики, которые подхватывали все собравшиеся: «Долой фашизм!», «В тюрьму заговорщиков!» В зале уже началось собрание, слышались голоса выступавших, и возмущенный гул на улице все усиливался, гнев нарастал при виде врага, нагло явившегося в их рабочее предместье с целью провокации. Позже дядя подробно описывал мне происходившее: возмущенные лица, поднятые кулаки, флажки, красные знамена, реявшие в вечернем сумраке. Он говорил, что эта стихийная сила поражала, но также внушала страх. Я помню это место — «Банкетный зал», где устраивались семейные торжества, встречи, дружеские вечеринки. Напротив, по ту сторону улицы, начинались сады и огороды, а за ними луга, спускавшиеся к реке. В тот вечер с реки дул холодный ветер, неся с собой запахи тины и навоза.
Какой-то человек взобрался на каменную ограду и обратился с речью к толпе — он кричал, что эти люди хотят задушить Республику, что рабочий класс не допустит этого, он будет бороться до полной победы. Каждую фразу толпа встречала одобрительным ревом и поднятыми кулаками. Под ее напором заслон был прорван, и полицейские поспешили укрыться за воротами. Охранники на крыльце все еще хорохорились, но и им, очевидно, тоже стало не по себе. Кто-то из них крикнул в толпу: «Агенты Москвы!» Тогда коммунисты вытащили из-под курток ручки от мотыг и пригрозили «излупить этих фашистов». Толпа преобразилась во внушительный боевой отряд, готовый к действиям, со своими вождями, отдававшими приказы, которые молниеносно облетали собравшихся.
И тут Жорж решил, что с него хватит. Это было сильнее его: он не желал быть в лагере тех, кто прибегал к насилию, диктуя свои законы. Таков уж он был, мой дядя Жорж! «Ребята просто озверели, и мне вдруг стало противно. И потом, нас было больше, и мы были настолько сильнее их!..» Разумеется, с такими принципами не делают революцию. Я пытался втолковать ему это позже, уже после войны, когда он мне рассказывал все эти истории и мы подолгу спорили, сидя в его мастерской, но он возражал: если отвечать на насилие насилием, то рискуешь сам уподобиться нападающему, а это чревато ужасными последствиями… «Даже Троцкий… представляю, что бы он натворил, придя к власти!» По этому вопросу мы могли дискутировать до бесконечности — я кричал, что с такими убеждениями ровным счетом ничего не добьешься, что нельзя мириться с несправедливостью, что, в конце концов, бывают и справедливые войны. А он твердил мне о Толстом и Ганди. Я увязал в рассуждениях, оправдывающих насилие, которого в глубине души и сам страшился, а он блуждал в тумане своих утопических взглядов, уводивших его далеко за пределы реальной действительности. Наконец мы оба уставали.
— Ладно, бог с ним… — говорил он.
Положив стамеску, он начинал скручивать сигарету. Иногда я злился на него за упрямство, а он кричал мне: «Ты совсем сектантом стал!» Вернувшись домой, я мысленно продолжал с ним спорить. Что-то подсказывало мне, что в жизни все гораздо сложнее, чем в теории, я прикидывал так и эдак, чувствуя, что совсем запутываюсь. Мой дядя обладал одним драгоценным умением: разбередить душу, лишить ее покоя.
Итак, в тот вечер он почувствовал, что сила берет верх, и тогда он ушел. Когда он вернулся домой, Жермена сидела в кухне и читала. Она подняла на него глаза:
— Ну, как там все кончилось?
Он рассказал ей о толпе, о криках, о ненависти и как он внезапно взял и ушел. Тогда, отложив книгу, она сурово взглянула на него:
— Значит, ты бросил товарищей в беде?
— Я не хочу быть с теми, кто наносит удары.
— А разве те, другие, не собирались тоже наносить их?
Они препирались некоторое время, потом она повернулась к нему спиной, и Жоржу ничего не оставалось, как отправиться спать. Совесть у него была неспокойна, но, убедив себя, что возвращаться все равно уже поздно, он в конце концов заснул.
На следующий день утром кто-то барабанит к ним в дверь. Это Райяр, секретарь ячейки, коммунист, небритый, с серым лицом, с ужасом, застывшим в глазах. Он коротко рассказывает, что накануне все обернулось очень скверно: началась стычка и фашисты стреляли. Серьезно ранен Блези, двадцатилетний рабочий парень. Он упал, обливаясь кровью, и его отвезли в больницу. Райяр сейчас идет туда узнать, как дела, но боится, что случилось самое худшее.