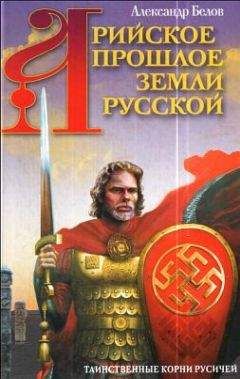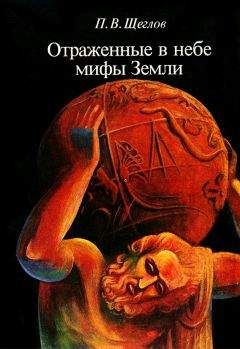Петр Проскурин - Число зверя
— Никого, батюшка, не было, что ты, что ты! К нам сроду никто из таких не заходит, как можно! Мы женщины честные! Теперь то и своим верить нельзя, а таким разным присобаченным и подавно! Как можно? Господи упаси, у нас защитников нету, заступиться некому, одна заступа — сами!
— Так может, в милицию надо обратиться? — предположил Рашель Задунайский, стремясь хоть чего нибудь добиться и настоять на своем, и Устинья Прохоровна, сразу построжев, зло сверкнула на него глазами.
— Вам, батюшка, виднее, вы вон какое начальство, а нас всякий обидеть может, — пожаловалась она, поджимая губы. — Вам бумага на театр от нас отправлена, а там вы как хотите себе делайте, вы люди ученые, а я что? Темная старуха, мое дело вон за порядком следить, а там что начальство придумает, мне не достать, ростом не вышла…
Несмотря на весь свой неиссякаемый природный оптимизм, Рашель Задунайский сник, устало помолчал, льстиво оставил старухе роскошную коробку конфет, бутылку фисташкового ликеру в красивой, с ленточкой, упаковке, скорбно отказался от предложенного Ульяной Прохоровной чаю и уехал, проклиная себя, театр, обольстительных актрис, их высоких покровителей, да и еще кое кого в придачу, и лелея в груди испепеляющие планы мести. И как бы закрепляя их страшной клятвой, энергично и шумно подул себе сначала на грудь, затем на плечи.
Часть третья
1
Ни в мире, ни в человеке, пожалуй, за последние несколько тысяч лет так ничего существенно и не изменилось, и каждому больше всего хотелось счастья. И если случившееся с Ксенией Дубовицкой можно было точнее всего назвать помрачением рассудка, безумием, значит, это и было самое высшее благо жизни, это и было счастьем.
Приоткрыв глаза, Ксения сквозь полусомкнутые ресницы почувствовала тяжелое, осеннее кавказское солнце, увидела четкое, хоть и далекое очертание гор — они повисли в безоблачном высоком небе длинной цепью, — вершины их сияли пугающе раскаленной белизной. Море рядом глухо и мерно шумело. От счастья быть и ни о чем не думать она зажмурилась, поворачивая лицо к слегка переместившемуся солнцу, но тотчас что то заслонило от нее солнце, и она слепо улыбнулась. Это подошел он, Сергей Романович, — он только что выкупался, и от него горьковато пахло морем, солью и дурманящей свежестью — так пахнут только здоровые мужчины в молодости. Он опустился рядом с ней на теплый, почти горячий песок и как то властно и нежно поцеловал в шею и в губы. Вокруг не было ни души, только они вдвоем, море и небо — они ушли далеко от поселка, в незнакомое место, в самую глушь. Все никак не могли насытиться друг другом, и это уже превращалось в какую то неутолимую жажду; Ксения не узнавала себя и старалась ни о чем не думать, — в ней впервые пробудилась зрелая сильная женщина, которая слепо и безраздельно отдавалась внезапно вспыхнувшей страсти, и теперь, едва он прикоснулся к ней губами и его руки сжали ей плечи, она не могла сдержать сладостную, опустошительную дрожь; подчиняясь, она вся потянулась ему навстречу, ей хотелось его растворить в себе, и затем жгучий, пронизывающий трепет охватил ее лоно, и она, застонав, почти потеряла сознание, и сладостный, жгущий мрак, в который она проваливалась все глубже, повторялся и повторялся, и когда наконец наступило утоление и она пришла в себя, вся опустошенная и легкая, она долго не могла ничего сказать и только слабо и благодарно поглаживала его широкую влажную грудь.
— Странно, — сказала она, отгоняя подступавшую дремоту и глядя в небо. — Мне вдруг такое подумалось… захотелось ребенка, именно от тебя, Сергей Романович… Вот дура! Размечталась, а?
— Почему же? — ответил Сергей Романович, с готовностью вскидываясь на локоть, и его зрачки расширились, замерцали. — Чем мы хуже других? Было бы просто чудесно…
— Замолчи, — попросила она. — Я сказала глупость. Ты же все обо мне знаешь, я все тебе рассказала. Этому ребенку никто бы не позавидовал, зачем ему с самого начала быть обреченным?
— Вот именно сейчас ты говоришь дело, — сказал он, хотя понимал, что ей хотелось услышать нечто совсем другое. — Ты всегда говоришь удивительно неопровержимые вещи, хотя это и не всегда приятно. Знаешь, давай не думать про завтра, нам хватит сегодняшних забот.
— После всего, что было, можно и умереть, — вслух подумала она, перескакивая совершенно на другое, как это часто бывает со счастливыми людьми. — Пролетело почти два месяца после нашей первой встречи, а я все никак не могу опомниться… Нам, пожалуй, надо опять куда нибудь переместиться, еще подальше, может быть, в самую дикую тундру…
— Ну конечно, в Аджарию, допустим, у меня там есть один верный приятель, — засмеялся Сергей Романович, затем, помолчав, с любопытством покосился в ее сторону. — Слушай, Ксюша, а почему у тебя вдруг возникло такое желание? Здесь вроде бы совсем не плохо… Мне очень нравится! Какая пустыня и какое море! Ни души!
— Мне тоже очень нравится, — призналась она и стала ощупывать его лицо кончиками пальцев, прошлась по бровям, по носу, по губам и подбородку, скользнула ниже — на шею и грудь. — Не могу себе представить, что я буду делать, когда ты исчезнешь, я просто и сама пропаду…
— А я должен обязательно исчезнуть? — поинтересовался Сергей Романович, и в нем, пожалуй, впервые после Москвы прорезался некий тревожный просвет — ему захотелось открыть глаза и взглянуть за пределы только одного сегодняшнего дня, но он тотчас задавил и отбросил прочь этот чужеродный всплеск, он еще был слишком молод, и в нем еще таилась надежда на чудо, как видимо, в чем то уже начинавшая сбываться. — Мы еще посмотрим, дорогой дядя! — неожиданно пригрозил он кому то неведомому и враждебному. — Мы тоже не лыком шиты!
Широко распахнув глаза, Ксения ладошкой прикрыла ему рот.
— Тише, Сережа, тише, — попросила она. — Ведь в мире сейчас такого безлюдья не бывает… Оно меня пугает, — так ведь не может быть… Последние два три дня меня преследует нечто навязчивое, я иногда чувствую на себе чей то посторонний, чужой взгляд, — недобрый взгляд. Я безошибочно знаю, что кто то рядом есть, чужой, злобный, следит за каждым моим шагом, за каждым движением… С тобой не случалось ничего подобного?
— Случалось, — не сразу отозвался он, пристально глядя в густую золотистую синеву безоблачного неба и прислушиваясь к мерным вздохам спокойного моря, и, заставив себя улыбнуться, добавил: — Вот и пусть позавидует, что тут можно еще добавить?
— С этим шутить не стоит, — возразила Ксения, — я знаю, что теперь меня уже нашли и больше не отпустят…
— Какая ерунда! — засмеялся Сергей Романович и, вскочив на ноги и запрокидывая руки за голову, сильно, с наслаждением потянулся. Небо и горы, почти вплотную придвинувшиеся к небольшой бухточке, к чистой, ослепительно белевшей полосе песка, закружились, и он шире расставил крепкие молодые ноги с круглыми коленями и лодыжками; он сейчас ни о чем не хотел думать, все прошлое отступило и рухнуло; он даже за свою недолгую жизнь усвоил, что от сильных мира сего лучше всего держаться подальше, всякого неосторожного обязательно отметят несмываемым клеймом, но с другой стороны, его всегда неостановимо тянуло именно в эти провалы, к этим черным дырам, и эти порочные наклонности у него, видимо, в крови, ему просто было необходимо попробовать свои силы в самых экстремальных, как говорится, условиях. И это ему нравилось, стоило только разгореться подобной фантазии, тотчас начинало шуметь и кружить в голове, сладко кружило и в сердце…
Он повернулся к морю и замер. Неожиданно, словно взрывом или слепящим всплеском света, перед ним мелькнуло лицо отца Арсения, его пронзительно вспыхнувшие, вбирающие глаза; чудный полубезумный странник словно хотел что то сказать ему, и, несмотря на молчание, на его плотно сжатые губы, в голове у Сергея Романовича уже начинали звучать какие то слова, но и теперь самого главного он вспомнить не мог, и, разрывая наползавшее оцепенение, не желая подчиняться ничьей посторонней воле, никакому пророчеству, он, широко раскинув руки, запрокинув голову, закружился волчком, взрывая песок. И небо, прошитое ослепительно белыми вершинами гор, нескончаемым хороводом ринулось в другую сторону, море стало тяжело нависать над берегом и готово было вот вот опрокинуться на него, но Сергей Романович никак не мог остановиться.
— О о! О о! — гулко закричал он в каком то первобытном упоении жизнью, и горы и море тотчас ответили ему согласным, все усиливающимся и под конец слившимся в одну высокую ноту стоном, и тогда он свалился на песок рядом с Ксенией, все так же широко раскинув руки, и Ксения, давно уже привставшая с земли и смотревшая на него загоревшимися глазами, стремительно и ловко бросилась на него, прижимая его к земле всем телом, и стала часто и сильно целовать, и уже потом, после очередного безумия, отдыхая и все никак не решаясь отпустить его, близко глядя в глаза ему, сказала: