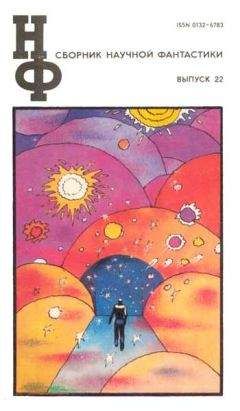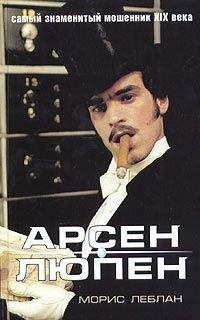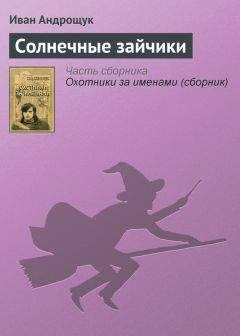Ирина Маленко - Совьетика
Что добро сильнее зла
Наяву и в сказке”
(«Новогодние приключения Маши и Вити»)… Я сидела на пустынном пляже малого Кюрасао, обхватив руками колени, и молча смотрела на то, как мелкие волны ласково лижут песок возле моих ног. Было совершенно темно: на малом Кюрасао, конечно же, нет никакого освещения. Только звезды – мириады звезд бесконечного Млечного пути – скрашивали эту теплую карибскую темноту.
Малый Кюрасао – это небольшой необитаемый остров к юго-востоку от Кюрасао большого. На нем нет ничего, кроме старого маяка и нескольких хижин, в которых иногда останавливаются местные рыбаки, если их застала ночь в пути. Да еще навеса от солнца для туристов, которые приезжают сюда днем – на несколько часов или на весь день, чтобы понырять и позагорать или полежать в тенечке под пальмами. Кроме нескольких пальм, здесь больше ничего не растет, а весь остров виден как на ладони, и его можно обойти минут за 15-20. Наветренная сторона малого Кюрасао – настоящее кладбище кораблей, включая даже один небольшой танкер, «Мария Бьянка», который медленно ржавеет там, лежа одним боком в море. Неподалеку от берега лежат и ржавеют на мелководье еще 4 или 5 кораблей- поменьше. А на другом конце островка валяются тонны принесенного сюда морем дерева, сотни пляжных тапочек-вьетнамок и тысячи пластиковых бутылок. Одним словом, обстановка весьма романтичная…
Отсюда, с Малого Кюрасао, зарева в небе уже не было видно, но я намеренно ушла на берег и устроилась на пляже подальше от моторки сержанта Марчены, чтобы не слышать по его рации, какая на Кюрасао поднялась паника. Мне и так было нелегко в тот момент совладать со своими нервами. То, что я чувствовала, напоминало послеродовые схватки – только не физически, а в эмоциональном плане. А я еще со времени своей жизни в ольстерской Мракобесии научилась беречь свою нервную систему. Ведь иначе там просто не выживешь…
Мы с сержантом Марченой ждали Ойшина. Рафаэлито с самого начала сказал, что он никуда с Кюрасао не поедет – как ни уговаривали его некоторые из наших товарищей хотя бы подумать об этом, подчеркивая, что ему грозит, если вычислят, что это он принимал участие в нашей операции «Брион».
– Никуда я не поеду, – сказал он, – и баста. И не волнуйтесь: что бы ни случилось, я никого не подведу.
Какой сильный человек! Какие замечательные у меня товарищи!
Как я хотела всю жизнь быть частью настоящего, крепкого, сплоченного коллектива – и вот наконец-то моя мечта сбылась!… И я вовсе не чувствую себя каким-нибудь «безродным космополитом» или «международным бомжом» – наоборот, я наконец-то ощущаю, что настоящие люди помогают друг другу в борьбе за правое дело вне зависимости от гражданства и того, какой язык является их родным. И что мы в этом мире тоже не одиноки… Наступит и наш час
Слезы подступали у меня к горлу при мысли о том, что я, возможно, никогда больше не увижу их, тех, с кем я так сроднилась за это время. И я уговаривала себя не думать об этом – верить в то, что все кончится благополучно, и что мы обязательно еще встретимся.
Но для того, чтобы верить в то, что все кончится благополучно, было, конечно же, совершенно необходимо, чтобы вернулся Ойшин…
А Ойшина все не было и не было. И помимо моей воли мне вспоминалось, как познакомились мы с ним целую вечность назад в холодном мартовском Леттеркенни, как неожиданно забилось у меня тогда сердце при виде его, что мы пережили вместе потом, за те почти два года, что мы выполняли вместе задание в Ирландии, и как глупо призналась я ему тогда в своих чувствах, которые, как оказалось, его только лишь напугали…Миллион мыслей проносился через мою голову за секунды. И я уже мысленно представляла себе Ойшина в оранжевом комбинезоне где-нибудь на базе в Гуантанамо….. Господи, да как же мне жить-то на свете, если его не станет?…
Нет, нет, надо подумать о чем-нибудь другом!
…Начинается новая жизнь. Я не знаю еще, какой она будет; не знаю, что нас в ней ждет, но в том, что жизнь эта будет новая, непохожая на предыдущую, нет сомнений. Чувствую себя так, словно кончается бесконечно долгая, похожая на полярную ночь, и на моих глазах в небе медленно и торжественно восходит солнце…
Примерно так же я чувствовала себя в последний раз когда навсегда покидала Нидерланды – вместе с мамой и с больной, все еще ничего или почти ничего не понимающей, но уже начавшей снова радостно смеяться Лизой.
После того, как нас выписали из больницы, и мы вернулись в приют, прошел еще почти месяц прежде чем мы наконец смогли вернуться домой. Месяц тяжелый и вспоминающийся даже сейчас, много лет спустя, очень тягостно.
Перед нашим возвращением в приют тамошних детей долго психологически готовили к тому, какой вернется Лиза. Ведь многие из них играли с ней и еще хорошо ее помнили. Им внушали, что она просто «снова стала маленькой» и потом еще обязательно опять вырастет. И я сама с удовольствием бы поверила в это…
Первое, что меня поразило, когда мы туда вернулись – это невероятная, до блеска, чистота, особенно на кухне: видно, кого-то все-таки по головке не погладили за сальмонеллез… Хотя у меня нет никаких доказательств, чем именно Лиза отравилась.
А еще мне очень тяжело делалось при мысли о том, как должен был себя чувствовать все эти месяцы Сонни – и я отчаянно внушала себе как думать о том, что, в конце концов, не я же заварила всю эту кашу. Легче не становилось, но ведь я действительно совсем не такого развода хотела с ним…
Лифта в приюте не было, а ходить Лиза все еще не могла. И я каждый день таскала ее вверх и вниз по крутой винтовой лестнице – на самый чердак, где размещалась наша с нею каморка. Ведь надо было каждый день возить ее на рейсовом автобусе в ревалидационный центр в Катвейке. В том самом Катвейке, где всего за два месяца до этого наша Лиза плескалась в море, живая, веселая, умненькая, красивая, полная жизни – и так искренне радующаяся тому, что папа наконец-то позволил снова появиться с ней рядом маме…. А теперь она сидела у окошка в автобусе, мыча и облизывая оконную раму.
Но я все равно уже не чувствовала жизнь настолько безнадежной, как месяц назад в больнице. Я старалась сравнивать Лизу не с тем, какой она была до болезни (от подобных сравнений действительно недолго было и тронуться), а с тем, какой она была уже в больнице, в разгар ее. И я видела, что Лизе становится лучше, несмотря ни на что, а еще – теперь-то я была совершенно уверена, что ни один суд нас уже не разлучит!
И поэтому даже такие вещи, как то, что голландское начальство в приюте, в отличие от больницы, запретило маме ночевать вместе с нами в комнате, несмотря на всю исключительность и отчаянность нашей с Лизой ситуации (по словам директрисы приюта для избиваемых жен, « а то все этого захотят!»!!), уже не могли вызвать у меня ничего, кроме улыбки.
Вполне возможно, что голландцы действительно искренне верят, что весь мир прямо-таки умирает от желания ночевать тут у них в приютах. На то они и голландцы, у них особое видение мира и, главное, собственного места в нем. Бог с ними. Пусть только оставят нас в покое, больше мне от них ничего не надо. Но они даже этого сделать не могли: не положено по правилам. И когда мама уходила на ночлег к Петре (а добираться туда на автобусе надо было почти час в один конец), ко мне вместо нее вваливала какая-нибудь очередная социальная работница и начинала силком заставлять меня исповедываться: что я чувствую, о чем я думаю…
А я ничего не чувствовала и думала только о том, как бы успеть выспаться – до того, как Лиза ровнехонько в 5 утра, когда еще темно, резко, словно Ванька-Встанька снова подскачет на кровати и будет сидеть на ней, раскачиваться и мычать. И день закрутится снова. Вечером, перед сном, мне тоже приходилось каждый вечер ее удерживать на подушке силком где-нибудь с полчаса прежде чем у нее прекращались ванько-встаньковые судороги, и она наконец-то могла заснуть как человек…Какие уж тут изливания души, тем более постороннему человеку, который интересуется тем, как ты себя чувствуешь, только для галочки в твоем личном деле!
Именно тогда-то мама и отбрила мою социальную работницу, Кончиту из Боливии, сказав ей как-то вечером перед уходом к Петре:
– А, вы из Боливии! Так это у вас там Че Гевару убили?…
Мы до сих пор смеемся, вспоминая, как она после этого пулей вылетела из моей комнаты и после этого действительно не лезла мне уже больше в душу…
Я к тому времени уже совершенно взяла себя в руки, загнала свои чувства куда-то в Марианскую впадину в душе и делала все исключительно по правилам – все, что мне полагалось и все, что от меня ожидалось. Я записывалась в очередь на предоставление социального жилья, прекрасно отдавая себе отчет, что я никогда, ни за что, ни за какие коврижки не останусь жить в этой стране – на пособие по безработице, с тяжело больным ребенком, без поддержки родных и близких, да еще и с ревнивым бывшим мужем под боком, от которого тебя не защитит тут ни одна полиция. Оставаться жить там было бы равнозначно самоубийству. И что тогда будет с Лизой? Я не сомневалась, что вырвусь оттуда словно птица из клетки – при первой же такой возможности. Но пока надо было этого не показывать. Не кричать об этом на каждом километре и со всех колоколен. Здесь нельзя было подобно моему дедушке, кричать: «Ты что делаешь, елки зеленые?», хватая жулика за руку. Как это ни странно, из собственного опыта я могу совершенно уверенно утверждать, что это не в Советском Союзе, а именно в «свободном мире» нельзя быть самой собой и говорить вслух то, что думаешь.