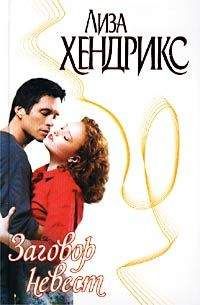Джим Гаррисон - Волк: Ложные воспоминания
Я ехал задним ходом до тех пор, пока не поравнялся с ведущей к дому дорогой. Здесь никто не жил с 1938 года, но дом все еще стоял, хотя двор зарос сорняками, из разбитых окон торчала трава, а из зарослей лопухов — обвалившиеся карнизы. Сосед что-то беспорядочно сеял, но бо́льшую часть земли оставил папоротнику, сумаху и канареечнику. Выключив фары, я сидел в полной темноте, слушая, как тикает остывающий мотор и трещат за окнами сверчки. В воздухе влага и сладость — это рогоз и клевер на топкой поляне через дорогу. И кто-то сложил сено в стог. В этом доме родился мой отец. Я ждал импульса, надеясь погрузиться с головой, но его не было; еще раньше, сразу после Гражданской войны, его прадед застолбил здесь участок, но для меня это ничего не значило — я не помнил даже имени этого человека. Предков по материнской линии я тоже не знал — если когда-нибудь попаду в Эрншёльдсвик на северном побережье Швеции, может, там что-то выясню. Но паломничество такого сорта я не считал для себя обязательным. Блондин с нечесаными космами заявляется в эти края, чтобы спрятаться от призыва, через тридцать лет после того, как измученный войной другой такой же блондин топает на север. В конце концов, они поселились милях в тридцати, не зная друг друга, и через много лет волей случая на свет появляюсь я. Сын лесоруба женится на дочери фермера, с которой познакомился на танцах в придорожном клубе у реки Маскигон. По-прежнему ничего не шевелится; все вышло бы иначе, будь у меня их личные бортовые журналы, топографическая карта с маршрутом того клипера или фотография идущего человека. Где он останавливался каждый день, пока шел через Кентукки и Огайо? Что он ел, пил, о чем думал; и так далее — штормило ли в Северной Атлантике и чего он больше всего боялся? Дед и прапрадед. Ни на что не рассчитывали и ничего особенного не добились. Следствие лени, неумелости и нищеты. Очень мило. Новая свобода: когда умирает отец, тебя больше некому судить, хотя он никогда никого и не осуждал при жизни. Подразумевается: делай что хочешь. Великодушие, высокомерие, сила. В том фермерском доме сидел дебильный ребенок, прижимаясь лбом к холодной пузатой печке. Мы качали насосом ледяную воду, а потом сидели за столом, застеленным клеенкой, и они разговаривали. На веревке болталась липкая лента, покрытая приставшими к ней мухами. Ребенок подполз к столу и, не сводя с меня глаз, положил свою восточную голову отцу на колени. В доме пахло коровьим дерьмом, молоком и керосином, на кухне стоял сепаратор. Я крутил такой у деда, а потом относил телятам и свиньям ведра снятого молока.
От Луны меньше четверти. Эти годы, с 1957-го по 1960-й, представляются мне цепью невыносимых судорог, зато следующие за ними — поразительно пусты, в некоторых как будто вообще не было отдельных событий. Реальными событиями становились книги, они могли захватить на несколько недель — соединялись с дыханием, я перенимал их манеру разговаривать, их мысли казались мне собственными. Ферротип Мышкин. Смех, почти перешедший в истерику, когда директор похоронного бюро сказал, что все «косметические» усилия оказались напрасны и оба гроба должны стоять закрытыми. Зачем? Труп он и есть труп, ты, мудак. Хорошо бы оказаться сейчас в Антверпене 1643 года. Наш проповедник говорил, что Голгофа была вообще-то иерусалимской мусорной кучей, с тех пор я не могу пройти мимо мусорной кучи без того, чтобы не вспомнить эту проповедь, хотя в моей памяти она стала туманной древностью. Выкидыши, зеленоватые овечьи кости, козлиные кишки; наверное, бродят, позвякивая колокольчиками, прокаженные, и небольшой не то холм, не то бугор с крестами. Кому могло прийти в голову, что это за кресты и что они станут основой всей мировой истории. Кто-то сказал: это учение о том, что произошло только один раз. Только один раз можно зайти в трюм корабля и только один раз можно умереть в трюме корабля. Пьяный матрос дал тебе по ошибке соленую воду. Скво перерезала горло сначала ребенку, а потом себе, предпочтя смерть позору плена. Два раза мне снились мертвые в образе птиц — один раз это была плачущая горлица, другой — ворона, хотя у обеих оставались человеческие лица, и оба раза птицы улетели прочь, когда я попытался с ними заговорить.
Я завел машину и опять включил радио. Три. Через полчаса начнет светать, я на несколько минут зажег фары, чтобы посмотреть на дом. Передняя дверь распахнута, через эту черную дыру можно войти, если бы у меня хватило пороху, однако половицы наверняка сгнили, я провалюсь в подвал, и там, под земляным полом, вполне возможно, открывается вход в другой, еще более глубокий подвал… На столе керосиновая лампа с фитилем, горит ярко. Мне было пятнадцать лет, когда они выиграли у меня все деньги в покер и в трепел. Отец и двое его братьев. За двадцать лет до того — ссора, кто первым «получит» какую-то девушку. Дешевое пиво «А и П» и четвертушка хлебной водки. Они были опытными игроками и после того, как я выпил слишком много пива, забрали мои деньги, а единственная стопка водки отправила меня блевать на снег — то-то они смеялись. Я полез на чердак, а утром попытался открутиться от охоты, сказав, что заболел. Опять смеются: вставай, это у тебя с бодуна. Господи, да это грипп. Когда мы все же пошли, я один остался без оленя. Три раза стрелял по бегущему и промазывал.
Теперь козодой. Всегда путал его с банши.[131] Призраки живут в снегу — будь я здесь зимой, когда мороз ниже нуля, а открытую дверь и разбитые окна заметает, пролетев через весь двор, голубовато-белый снег. В спальне наверху старые газеты, докажут тебе, что не изменилось ничего, кроме всего мира и скорости света. Через день после того, как обвалился сарай, меня здесь уже не было, а дед собирал доски, чтобы строить гараж. До этого он сидел верхом на чердачной балке, а мы упрашивали его слезть ради всего святого с крыши, потому что в свои восемьдесят пять дед был уже довольно дряхлым. Он так и не слез, и мы ушли в дом, чтобы быстро и нервно съесть ланч, пока он срывает с бывшей крыши доски. Тетка стояла у окна и с набитым ртом докладывала об успехах своего отца. Он пристроил гараж к задней стене дома, получилось криво, гараж кренился и протекал. Потом он заехал в него слишком быстро, и машину безнадежно заклинило у стены. Он умер через два года — после того, как всю ночь прошагал в больничной сорочке двенадцать миль до дома. Его похоронили на маленьком деревенском кладбище рядом с дочерью Шарлоттой, умершей от гриппа во время Первой мировой. С тех пор там добавилось много новых могил. Глупая мысль: когда умрут все, кого я знаю, не останется причин для горя. У дороги здание школы, где в Депрессию проходили собрания Коммунистической партии.
На востоке понемногу светлеет, я вышел из машины и потянулся, жалея, что выбросил бутылку. Все равно как закопал в то утро сигареты. Желание сбросить старую кожу и за считаные часы нарастить новую. Измучен изменчивостью. Хотелось чего-то более окончательного, но вряд ли оно существует где-нибудь еще, помимо смерти. Я шагал от коттеджа к ферме, чтобы забрать мешок с продуктами, которые фермерская жена купила для нас в Эштоне, а обратно решил срезать путь и пройти по лесу. Было очень жарко: добравшись до своей любимой поляны, я сорвал стручок молочая, сел на землю и разломил его; серовато-зеленое молочко, немного клейкое, внутри мягкий пух и гнездышки темно-коричневых семян. Тут ветер подул с другой стороны, запахло чем-то неприятным, я прошел через всю поляну к горе меха: олень, уже без глаз, в глазницах мухи, морда, седая от старости, в животе рваная дыра, наверное, поработала лиса, и в этой дыре неправдоподобно густая гора белых червяков, пожирающих мясо. Я вспомнил, что в мешке с продуктами была припасена для отца банка фонарного масла. Встав на колени, разрезал дерн, оттащил в сторону сухую траву, потом, отыскав между гамбургером и молоком банку, разбрызгал масло по червякам и по мухам, их породившим, сунул в эту кашу спичку и резко отпрянул. Жуткая вонь горящего мяса держалась недолго. Я подошел к трупу — живые червяки прокладывали себе путь сквозь спекшуюся массу мертвых. Дома я сказал матери, что эта женщина, наверное, забыла фонарное масло. Странно вспоминать о чем-то впервые — не столько отвращение к червякам, сколько желание посмотреть, как они горят.
Я закурил сигарету и сильно закашлялся, так что в горле пересохло и запершило. Воздух чуть-чуть светился размытым перламутровым светом. У меня за спиной дорогу перешла кошка. Стелется туман, переползая через дорогу, огибая меня пониже пояса, из болота, мимо машины, по траве, вокруг дома, одно волоконце втягивается в дверь. Я прикурил новую сигарету и подумал: для чего я стою на рассвете перед пустым домом — неужели жду, что сейчас в дверях появится отец в оставшихся от колледжа кавалерийских бриджах и позовет меня выпить кофе? Он не узнает во мне своего сына, ведь он, разумеется, еще не женат, а я старше его на десять лет. Отец моего отца скоро тоже встанет, чтобы развезти деревенскую почту, — он занялся этим после того, как закончилась работа в лесу. Он скажет моему отцу, чтобы тот снимал эти свои дурацкие бриджи и шел обрабатывать кукурузу на передних сорока. Я пройду вслед за отцом до сарая, где он полчаса будет запрягать лошадей. Потом мы будем разговаривать, и, прислонясь к забору, он скажет, что с радостью вернулся бы в колледж, а то на ферме очень скучно. Я соглашусь — работа тяжелая, а деньги маленькие. Потом он прицепит культиватор, уйдет прочь вместе с лошадьми, а я скажу: приятно было поговорить — и уйду к машине.