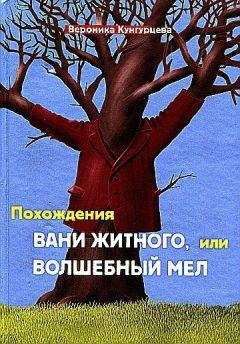Вероника Кунгурцева - Орина дома и в Потусторонье
Крошечка пригляделась в свете полной луны — и оторопела: в зеркале отражалась смутно знакомая девушка в сбившемся набекрень капоре, из-под которого свисали пряди волос. Она быстро провела ладонью по лицу, по груди, которая еще поднялась — и охнула.
— То-то! — ухмыльнулся Прораб. — Не бойся, мы тебя за сестру будем держать.
— Так не годится! — закричал Павлик Краснов, стараясь пробиться к ней сквозь частокол Злобиных. — Мы так не договаривались!
И она увидела, что Павлик за эту ночь — а ведь еще и утро не забрезжило, — перерос ее, да и коренастых рабочих тоже.
— А мы так нанимались! — твердо сказал прораб.
Неизвестно, чем бы дело кончилось, но вдруг раздался страшный грохот, все повалились на землю, а когда Орина, приподнявшись, повернула голову, то увидела, что конторы Леспромхоза больше нет: разнесло ее в щепы, а то, что осталось, горит пожаром, с куполом дыма, за которым скрывается шпионка луна. А посреди нового моста — от перил одной «X» до «X» другой — стоит фашистский танк, размером как раз с порушенную контору, и поводит саженным стволом пушки с какой-то бульбой на конце, выискивая, куда бы еще шебаркнуть.
— Вот гад, пятидесятитонный! Как бы новый мост не продавил… — бормочет Прораб. — Надо бы его как-то выманить на твердь…
А Вахрушев с ума, знать, сошел: бегает вокруг горящей конторы и волосы на голове рвет: дескать, телефон… телефон там остался, как я теперь с верхами-то связываться буду?! Вся связь кончилась…
Череп выбегает на дорогу и кажет танку левую руку, «перерубленную» в сгибе правой:
— А это видал?!
И танк, как бык, которому показали красную тряпку, тотчас съехал на этот берег и, найдя цель, остановил на Черепе свой длинный ствол: дескать, такой-то не перерубишь… Но лысый, не успел танк бабахнуть, уж нырнул за угол склада. В который и нацелился толстый ствол.
Павлик Краснов схватил Орину за руку и потащил за собой. Крошечка обернулась на бегу: все Злобины укрылись кто где — за складом, за клубом, за избой Газакаевых; может, и хотелось бы им повоевать — да никакого оружия у них не было, кроме бензопил, да пил лучковых, да еще гидроклиньев, рычагов и топоров… А танк-то ведь — в отличие от моста — не деревянный…
И вот бронированная техника, разбомбив-таки склад и миновав пожарище, с чужеродным грохотом катит по заученным Ориной наизусть — до каждого кустика крапивы, до каждой кривой канавки, до последней коричневой пупырчатой гальки — уличкам Поселка.
Крошечка потянула Павлика к дому: дескать, в избе укроемся, — но мальчик покачал головой:
— Нет, в лес надо бежать, там бездорожье — танк не пройдет!
Ребята свернули направо, в проулок, — танк за ними, промчались мимо развешанного мочала, которое наперебой показывало им желтые языки, прошмыгнули между забором дедушки Каттуса и пекарней, — тут танк точно застрянет, — миновали навес-смолокурню, — а танк грохочет следом, видать, ничто его не остановит, порушил все заборы. Скорее, скорее… Свет пожарища остался позади — а впереди полнодревесная тьма. Когда же все-таки рассветет?!
Орина с Павликом с топотом промчались по мосткам и побежали в гору, пускай в темный — да зато свой — Наговицын лес. А танк, проломив мосток, ухнул в речку Смолокурку — и, кажется, на время затих.
И вдруг Крошечка услышала… лай собак в отдалении и… и… чужую невнятную речь, и… треск автоматных очередей, как будто поселковые бабы собрались вместе и старые тряпки рвут, чтоб сплести из них половики.
Они побежали дальше, спотыкаясь и падая, и вот, загнанно дыша, остановились передохнуть под ближайшей сосной, как вдруг Лес Петрович вновь заговорил:
— Тятя, тятенька вернулся!
— Вернулся! А ты ему подножку поставил! Из-за тебя упал тятька!
— Я думал, это простой человечек…
— Думал он… Чем ты только думаешь… Макушкой надо было думать, а не комлем! Тогда бы и не выставил свой дурацкий корень…
И сосна, под которой они стояли, сказала:
— Тятя, лезьте скорее на меня… Уж я вас спрячу!
Крошечка, продев голову в ременную петлю сумки и повесив ее наискось, полезла первая, Павлик — за ней; но ствол дерева оказался без табачных — и прочих сучьев, — не за что уцепиться, прямослойный, не свилеватый, как раз такой, какой пришелся бы по душе директору Леспромхоза, но забираться по нему без цирковой подготовки было невозможно.
— Не надо быть пророком, — пробормотала Орина, — чтоб предсказать, что быть этой сосне телеграфным столбом!
Но Павлик Краснов на нее зашикал; а лай собак и лающая речь страшно придвинулись. Орина с Павликом, так и не добравшись до раскидистых зеленых веток, зависли один под другим, на разных уровнях смолистого ствола, точно две морозовые опухоли. Одно утешало: темно в лесу, авось фрицы их не заметят!
И тут они увидели, что темноту прощупывают длинные пальцы света: это немцы включили свои фонарики. А лай стал таким громким, как будто псы гавкают в соседнем дворе. И молвь стала явственно слышна: тут уж торопись молиться каким угодно богам, — правда, молитвам Крошечка не была научена, поэтому прошептала:
— Дедушки Ленин, Маркс и Энгельс, помогите мне, грешной! — подумала и прибавила: — А также Павлику Краснову, сыну Пандоры-Кривой.
Она пыталась разобрать, что говорят внизу, но иноземные слова сливались в неразличимый набор звуков. Была бы здесь ее мать, Лилия Григорьевна, она бы живо сделала перевод, но матери ни на этой сосне, ни на соседней, увы, не было.
Одна из воздушных световых тропинок начиналась под лесиной, на которой они с Павликом засели, — немец остановился как раз под ними. Орина заглянула вниз и из-за повисшего мальчика, заплетшего вокруг ствола руки-ноги, увидела две темные фигуры. От одной тянулся луч, маятником прорезавший тьму, а другой была овчарка, которая выла и рвалась с поводка… Сейчас она ка-ак…
— Не бойся тятенька, не бойся, девонька, — зашептала телеграфная сосна, — собака не учует: вы наскрозь смолой пропахли, как и я…
Видать, немцу нужен был переводчик, чтобы понять, о чем толкует дерево: лесного языка он явно не знал.
«Только бы не упасть, только бы не упасть», — думала Орина, руки которой вот-вот готовы были расцепиться, она уж понемногу съезжала книзу: вот-вот сядет Павлику на голову. И тут Павлик Краснов… чихнул!
Но одновременно с этим чихом — в свете фонарика показался темный колоб, катящийся с горы; однажды по телевизору Крошечка видела цирковое представление, среди прочего там показывали крутящийся шар, внутри которого стоял человек с широко разведенными руками и ногами и двигал этот пузырь, и вот ей почудилось, что внутри колоба тоже кто-то есть — женщина в колыхающейся юбке, в белом платке с завевающимися концами…
Колоб подскакивал на ухабах, при этом получалось: кереметь, кере-меть!
— Was ist das? — произнес наконец понятное для Орины немец, направивший фонарный свет на странный шар.
Не дождавшись ответа, он нацелился в шар автоматом, выстрелил, а… колоб, сделав очередное «кере-меть», заглотил пули и… вроде как облизнулся, потому что не успел немец закончить слово «Partisa…», как из колоба, наподобие языка, высунулись вилы, проткнули фрица, втянулись обратно, а колоб проехался по упавшему и по завизжавшей собаке. Шар покатился дальше, а… немец со своей овчаркой исчезли. Орина пригляделась: фонарик скакал теперь внутри колобка, мертвый фриц и живая собака, которая вовсю лаяла, тоже оказались в вертящемся пузыре, вместе с женщиной.
В лесу звучали отрывистые голоса, Орина поняла: «Was ist los?» и — «Partisanen!», поднялся остервенелый лай, и такая началась пальба, что мальчик с девочкой стрелой взлетели на самую верхушку, уселись тут на суку, и сосна тотчас укрыла их своими пушистыми ветвями, ворчливо выговаривая:
— Наконец-то догадались! Вот ведь шишки неразумные! Она — ладно, с нее и спросу нет, а ты-то, тятенька, что ж?!
А колоб, мелькая фонарным светом, разгоревшимся у него в пузе, покатился на ближайший голос и лай, и как очередной фриц ни палил в него очередями, как ни ладился рвать пес, — а и эти двое были заколоты выскочившими вилами, и закатаны внутрь прожорливого колобка.
В лесу стало заметно светлее: с верхушки высоченной сосны им было видно, как внизу, на опушке леса, раздувшийся шар окружили фрицы в рогатых касках и закидали его гранатами, при каждом попадании колоб делал так: «кереметь» — и глотал гранату. А после из шара, точно из гигантской лейки, во все стороны брызнули струи воды: немцы заорали дурными голосами и принялись кататься по земле… Овчарки, жалобно скуля, разбежались…
— Чего это они? — спросила Крошечка.
Павлик Краснов, сидевший на соседней ветке, высказал предположение:
— Может, вода-то — кипяток?!
А колоб, уложив автоматчиков на землю, принялся педантично закатывать их, одного за другим, внутрь себя. Ни одного не пропустил! После того как все враги оказались в шаре, он покатился с горы. В тишине было отчетливо слышно: при каждом подскоке на неровностях местности выходит одно и то же — кере-меть, кере-меть!