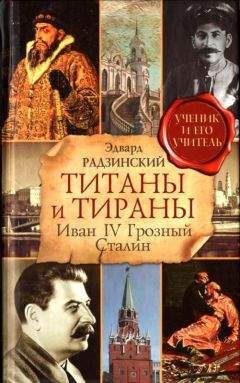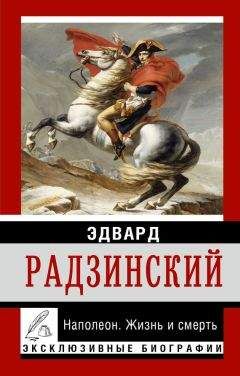Эдвард Радзинский - Наш Декамерон
- А ты не с комиссии? А то мы комиссию ждем. Комиссия за нами приедет.
Ясноглазая не отвечала и все смотрела в глубь раскрытого храма. Оттуда веяло холодом: пустые побеленные стены, иконы лежат на полу штабелями вдоль стен.
- Службы нету. Батюшка помер, царство ему небесное, а другого не присылают. А под полом церкви господа бывшие лежат в белых склепах…
Рядом с церковью в высокой траве стоял Ангел с отбитыми крыльями.
Сей памятник любви,
Признательности нежной
Воздвигли дети-сироты отцу
Нежнейшему и матери любезной,
Пускаясь без вождя в путь бед и суеты.
Сзади раздавался нежный смех дурочки. Это неслышно подошел высокий идиот. Он наклонился и молча водил губами по ее шее.
- Разлучать нас будут, - смеясь говорила дурочка. - Думают, мы не знаем. Все знаем. Про все донесение в город написали. Небось, тебе с горбуном можно, а нам нельзя? Что ж, мы не люди, если я инвалидка?
У дома уже стоял грузовик. В кабине торчала голова шофера. Горбун стоял у грузовика очень важный, с портфелем. И рядом краснела пудовая баба.
- Тебя дожидаются, - сказала баба ясноглазой. Потом обратилась к горбуну: - Вези ее, чтоб духу ее здесь не было. А чего узнаю - голову оторву…
Ясноглазую посадили в кабину между горбуном и шофером.
Как только они отъехали, шофер снял одну руку с баранки и чуть обнял ее.
- Поедем-поедем, - торопливо говорил горбун, - а то здесь неспокойно: в Георгиевском, говорят, злодей объявился, магазин ограбил, часы взял и пинджак импортный.
- Видать, на танцы человек собрался, - не выпуская ее плеча, сказал шофер.
- А на тебе, кстати, пинджак новый.
- А я и ограбил, - сказал шофер и совсем прижал ее.
Машину качнуло. Шофер был сильно пьян.
- Пьешь? - хмуро сказал горбун.
- А ты что - жрешь ее, что ли? Не нравится тебе, горбатая рожа, что я к твоей Машке прислонился? Сам хочешь? Вы ведь, горбатые, специалисты бюллетень в урну опускать.
- И где ж ты выпить успел?
- А в пивной. Там хвост стоит. Ну, продавщица с заднего проходу мне и дала. - Он захохотал. - Я тебе на любой во-прос так отвечу, что даже тебя, горбатого, в краску вгоню. Ты знаешь, кто я? Пожарник добровольный. У нас в субботу соревнования. Мы учебно поджигать будем и тушить. Так что, если мне теперь кто не понравится, я по учебе его дом сожгу. Понял, горб, на что намекаю?
- А не боишься так говорить?
- А чего бояться? Бога нету, а милиция пускай сама меня боится. Ничего не боюсь! Я когда на Клавке женился - восемь лезвий в рот засунул и разжевал. Все Клавку напугать хотел. Но не пугается, сука. Тогда я в два ряда пуговицы на тело пришил - спроси у Клавкиного бати. Я руки резал - два надреза сделал. Меня от коровы в хлеву вилами гнали, потому что я дикий человек. Я люблю, чтоб меня боялись. Вот как ты сейчас боишься, горбатая рожа. А Клавка не испугалась. Видать, ослаб я после посадки. Слушай, горбун, ты корявый, горбатый, а я тебя вожу, а не ты меня. А почему? Чем я хуже? Я все могу. Я вон из машины этой полмотора продал, а она все ходит. Потому что выхода у нее нету. Когда выхода нету…
Они въехали в лес.
- Ну, давай отдохнем, что ли… - И шофер рывком выдернул ее из машины.
Горбун начал тонко кричать, бросаться на шофера, но тот, хохоча, швырнул его на землю. Шофер был сильно пьян, но не шатался, крепкий шофер.
Она нелепо вытянула руку, отталкивая его, но он, все хохоча, легко выломал ей руки. Бабы обычно кричали, когда он вот так заламывал им руки. И тогда, бросая их на землю, он душил их крик, тычась губами в их губы. А эта была точно неживая.
"Не боится. Видать, ослаб", - подумал шофер, наваливаясь.
Она молча выкручивалась телом, и вдруг шофер замер. Странно дернувшись, захрипел, начал сползать…
Она увидела над собой длинную фигуру. Идиот стоял во весь свой непомерный рост и улыбался, блестя радостными глазами. Шофер лежал ничком, и нож меж ребрами был нелепый и кривой, похожий на заводную ручку. И горбун, тоже с ножом в спине, лежал недвижно и тихо в стороне. Они были теперь совсем спокойные. Как мох, как пни - потому что они стали частью земли. А идиот, радостно стряхивая с себя сено (он всю дорогу хоронился под сеном в кузове), засмеялся и пошел прочь. И всю дорогу он смеялся и приговаривал:
- Не будет комиссии! Убили комиссию!..
Дальше она плохо помнила. И как очутилась на окраине большого города, и как вошла в этот город. Босоножка у нее порвалась, идти не могла. И вдруг видит ясноглазая: будочка стоит, а там дядечка сидит и женский туфель чинит.
- Почини туфель, дядечка.
- Починю, доча.
- А много ли возьмешь?
- Да вон в вазочке цветок стоит: воду перемени - и вся плата.
Она взяла баночку, воду в ней переменила и новый цветок в вазочку поставила.
Щеки у сапожника были небритые, а глаза добрые-добрые, синие-синие. И поняла она, что это он ее суженый, и он понял, потому что босоножку починенную отдал ей с поклоном.
И она надела босоножку и пошла от него прочь. И шла ясноглазая по городу счастливая.
Д. продолжал читать - уже второй сценарий… И было слышно, как пьяно рыдала в темноте актриса.
И вся наша комната медленно двинулась в рассвет. А у окна уже возник стол.
Д. стоял на столе, я слышал, слышал голос:
- Боже, пожалей…
…Качается ветка, тронутая раскрывшимся окном, качается, качается, качается… ветка в росе… и сад… а он в рубашонке сияющей детской ручкой тянется, тянется в сад к ветке сквозь форточку.
…Мужик сидит на дрожках. Пряничные лошади. У мужика красное распаренное лицо с багровыми руками, пудовая рука держит вожжи. И как отражение: тысячи пряничных мужиков держат вожжи пудовыми руками. И морды, морды лошадей, странно похожие на морды добрых львов, которые лежат у наших усадеб. А за спиной кровавого мужика, изогнув талию и приподняв котелок, некто чертом зарылся в рот пряничной бабы… Эх, птица-тройка, о, птица-тройка!
Надо только привязать веревку к отоплению и дотянуться со стола…
Рвут! Рвут дверь! Ишь чего захотели - открой!..
И на дрожках с пряничным мужиком через открытую форточку - в звезды… Господи-и-и!!
О ЛЮБВИ К РОДНОМУ ДОМУ
- Это был центр маленького среднерусского города, - читал голос Д. - К центру мимо старого кладбища у церкви шел он, Лысый и Отвратительный, в брезентовом плаще, со шляпой на ушах.
Машину он отпустил и решил пройтись пешком, потому что голова болела.
Город содрогался от рева - это вдали шли соревнования пахарей. Пахари здесь давно не пахали, а только соревновались.
Окраины были освещены багровым пламенем: там тоже шли соревнования - добровольной пожарной дружины. Дружина зажигала дома, а потом их тушила.
Он шел не торопясь и вдруг остановился. На центральном кладбище двое могильщиков - два пряничных мужика - рыли землю. Он очень удивился: кого-то хоронили на центральном кладбище, а он об этом ничего не знает. Такого быть не могло: мест на кладбище оставалось совсем немного, и все они были забронированы для начальства и заслуженной городской интеллигенции (те еще жили, но в перспективном плане кладбища уже были проставлены их фамилии). Все же остальное население хоронилось на новом кладбище за городской чертой…
Он хотел было подойти и спросить, кого хоронят, но как-то жутко закололо сердце, и он почувствовал ужасную тоску. Голова разламывалась. "Это со вчерашнего", - подумал он.
Вчера он, управляющий трестом, и новая директорша универмага поехали в заповедник на гулянку. Поохотились, забили заповедного лося, разложили костер на поляне. Шоферня подогнала машины, засветила фарами - и заплясали на поляне в свете фар, напившись-нажрамшись.
- Жги! Жги! Жги! - орал он, подпрыгивая.