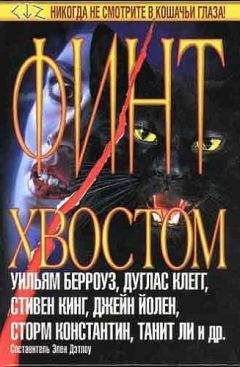Джеральдина Брукс - Люди книги
Высыпала белые гранулы на подвядший капустный лист. В тысячах футов подо мной вздымались соленые волны невидимого океана.
Соленая вода
Барселона, 1492
Слово Бога сверкает,
Подобно серебру или золоту.
Когда звучит это Слово,
Сверкает оно, яркое, всеобъемлющее,
воистину Абсолют.
Израиль зрит это Слово,
Летящее в пространстве,
И буквы его словно вырезаны
на каменных плитах.
Давид Бен Шушан не был грубияном, просто ум его был занят более высокими вещами. Жена, Мириам, часто ругала его за то, что он, проходя по базару в двух шагах от ее сестры, не удостаивал ее даже кивком, а также за то, что тот не слышал, как торговцы макрелью предлагали ему купить у них рыбу за полцены.
Он не мог бы объяснить, как случилось, что он заметил юношу, который в отличие от попрошаек и коробейников просто молча сидел и смотрел на лица проходивших людей. Может, именно эта неподвижность и привлекла внимание Бен Шушана. В шуме и гаме рынка он один был тих и спокоен. А может, дело было не в этом. Вероятно, тонкий луч зимнего солнца упал на золото, и оно вспыхнуло.
Парень занимал маленький клочок земли в конце рынка, возле городской стены. Место это было промозглое, ветреное. Покупателей здесь привлечь было трудно, а потому местные купцы оставили его для странствующих коробейников или для андалузских беженцев, проходивших через город. Войны на юге многих вынудили бежать. К тому времени как они достигали Барселоны, то немногое, что у них осталось, было уже продано. Большая часть беженцев, нашедших места в закоулках рынка, пытались продать бесполезные вещи: поношенную одежду, старую домашнюю утварь. Но юноша развернул на куске кожи маленькие разрисованные пергаменты.
Бен Шушан остановился и пробился через толпу. Присел, опираясь пальцами на мерзлую грязную землю. Картинки и в самом деле были ослепительными. Бен Шушан видел иллюстрации в христианских молитвенниках, но в таких книгах — никогда. Он нагнулся и смотрел, не веря своим глазам. Это сделал кто-то, хорошо знакомый с Мидрашем, или, по крайней мере, этот кто-то учил художника. Бен Шушану пришла в голову мысль, которая очень ему понравилась.
— Кто это сделал? — спросил он.
Юноша непонимающе смотрел на него блестящими карими глазами. Решив, что тот не понимает местный диалект, Бен Шушан перешел на арабский, а затем на еврейский. Но взгляд не изменился.
— Он глухонемой, — сказал однорукий крестьянин.
Он продавал много раз чиненную деревянную миску и две деревянные ложки.
— Я встретил на дороге его и его черного раба.
Бен Шушан посмотрел на юношу попристальнее. Его одежда, хотя и запачкавшаяся за время дороги, была очень хорошей.
— Кто он?
Крестьянин пожал плечами.
— Раб рассказал мне невероятную историю. Говорил, что он — сын врача, состоявшего на службе у последнего эмира. Но вы же знаете этих рабов. Они любят присочинить.
— Парень — еврей?
— Он обрезанный, стало быть, не христианин, а на мавра не похож.
— А где этот раб? Я бы хотел узнать побольше об этих картинках.
— Удрал вскоре, после того как мы высадились на побережье в Аликанте. Должно быть, попытался уехать домой, в Ифрикию [26]. Жене понравился парнишка: он усердный, и уж точно не будет болтать у нее за спиной. Но, когда мы пришли сюда, я дал ему понять, что он должен продать что-нибудь, чтобы заплатить за дорогу. Картинки — это все, что у него есть. На них настоящее золото. Может, возьмете одну?
— Я возьму все, — сказал Бен Шушан.
Мириам шлепнула на тарелку мясо со всей силы, так что у Давида разломился кусок хлеба, а на стол вытекла струйка соуса.
— Только посмотри, что ты наделал, негодный!
— Мириам…
Он знал, что гнев ее вызван не разломившимся куском хлеба. Дочка, Рути, подскочила и принялась вытирать лужицу. Давид видел, что плечи дочери поникли оттого, что его жена не унималась. Рути терпеть не могла криков. Давид прозвал ее воробышком, потому что она напоминала ему нервную птичку. У нее, как у воробья, были тусклые каштановые волосы, серовато-коричневые глаза и землистый цвет кожи. От нее часто плохо пахло, потому что она следила за котелками, в которых он варил чернильные орехи, смолу и медный купорос. Из всего этого он готовил чернила. Бедный воробышек, думал он. Добрая, старательная, в свои пятнадцать она могла бы выйти за какого-нибудь хорошего человека, тогда бы ей не доставалось от острого материнского языка. Но Рути была бесприданницей, да и лицом не вышла. Из круга невест достойные семейства ее исключили, в основном, из-за поведения ее брата.
Мириам, жесткая, как старое седло, не переносила робости дочери. Вот и сейчас она грубо ее одернула, выхватила из ее рук тряпку и вытерла стол с преувеличенным рвением.
— Ты прекрасно знаешь, что у тебя мало заказов, но все же потратил двухмесячный доход на картинки. Рашель сказала, что ты даже не поторговался с мальчишкой.
Давид постарался подавить в себе недобрые мысли о соседке Рашели, которая, похоже, до мельчайших подробностей знала все, что творится в округе.
— Мириам…
— Словно вскорости нам не понадобятся деньги — ведь племянник твой женится!
— Мириам, — сказал Давид и повысил голос, что было ему совершенно несвойственно. — Картинки как раз для свадьбы. Ты же знаешь, что я сейчас готовлю Аггаду для сына Иосифа и его невесты. Разве не понимаешь? Я соберу дести и переплету их в книгу с этими картинками. Тогда мы сделаем достойный подарок.
Мириам поджала губы и убрала прядь волос под головную повязку.
— Ну тогда…
Мириам готова была желчь проглотить, но не отступить в споре, однако эта информация принесла ей облегчение, словно она сняла тесные туфли. Ее беспокоил свадебный подарок. На свадьбу старшего сына Дона Иосифа и дочери семейства Санц с пустяком не придешь. Она боялась, что простая Аггада, сделанная самим Давидом, покажется неважным подарком этим богатым семьям. Но картинки, с золотом, лазуритом и малахитом, и в самом деле выглядели достойно.
Давид Бен Шушан не беспокоился о деньгах, а еще меньше о своем положении в обществе. То, что он был самым бедным человеком в роду Бен Шушанов, ничуть его не тревожило. Заметив, что упрямая жена подобрела, он облегченно вздохнул. Ему нравилось то, что он придумал. Лет десять назад он бы не отважился на покупку изображений, даже религиозных. Но его брат был светским человеком: он устраивал банкеты, слушал музыку и был — хотя Давид никогда не сказал бы ему этого в лицо — почти неотличим от знатного христианина. Так почему бы его сыну не получить книгу, которая могла бы поспорить с самым красивым христианским псалтырем? Великий рабби Шломо Дюран, в конце концов, настаивал на том, что студенты должны учиться только на красивых книгах. «Они делают душу сильной. Одним из достижений нашего народа является то, что богатые и выдающиеся люди в каждом поколении создавали красивые рукописи», — говорил раввин.
Что ж, он не был ни богатым, ни выдающимся, но, с помощью божественного промысла, в руки ему попали эти чудесные миниатюры, а он умел красиво писать. Он хотел бы, чтобы книга, которую он сделал, прославилась. Обычно ему трудно было объяснить жене, что работа переписчика святого языка Господа сделала его богатым, несмотря на жалкие монеты, получаемы за это. Он посмотрел на нее и заметил, что она слегка улыбнулась. Кажется, она впервые его поняла.
Он работал при сером утреннем свете и отмахнулся от Мириам, когда та пришла позвать его к завтраку. Их дом, как и большинство домов в Кахале, был маленьким строением — всего две комнаты, одна над другой, поэтому Бен Шушан вынужден был работать на улице даже промозглой зимой. Он устроился буквально в десяти шагах от входной двери. Здесь он вымачивал в извести шкуры, а другие, натянутые на рамы, ожидали бледных лучей солнца, под которым они медленно сохли. Толстые шкуры, с жиром, с кровяными сосудами, дожидались, когда он обработает их круглым скребком. Имелась у него и маленькая груда выскобленных заготовок. Он их тщательно отсортировал, искал среди них шкуры горных овец: они подходили к пергаментам с иллюстрациями. Отобрал лучшие и усадил за работу Рути: она натирала их до гладкости пемзой и мелом. Сам же вымыл руки в холодной воде дворового фонтана, уселся за письмо и на подготовленные страницы костяной палочкой-стило осторожно нанес линии. На эти тонкие, как волос, линии лягут написанные им буквы. Покончив с линовкой, он провел холодными ладонями по лицу и прошептал молитву.
Взял турецкое перо и окунул его в чернила. «Это хлеб скорби, — огненные буквы, казалось, прожгли пергамент, — который ели отцы наши в земле Египетской. Тот, кто голоден, пусть войдет и поест…»