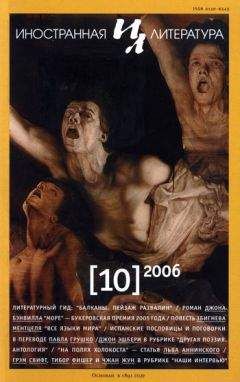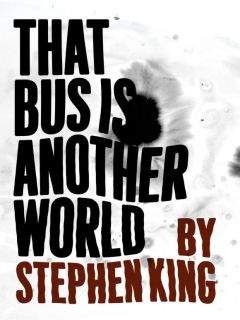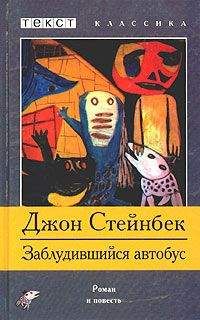Джон Бэнвилл - Неприкасаемый
— Вот он, — заметил Ник. — Твой пролетариат.
— Ну и сноб же ты, — огрызнулся я.
При всем напускном разочаровании жизнью мы испытывали страшное возбуждение. Из подмигиваний и намеков Билли Митчетта мы вообразили, что нас посылают во Францию с секретным и, возможно, опасным заданием; мы, по существу, не произносили вслух, даже про себя, щекочущие нервы слова «проникновение за линию фронта противника», но знали, что они на кончике языка у каждого. В последние недели пребывания в Бингли-Мэнор меня одолевало любопытство, как это по-настоящему убить человека. Надраивая полы или начищая портупею, я вызывал в воображении идиллические балетные картины насилия. Очень возбуждало; я походил на школьника, смакующего непристойности. Обычно эти воображаемые чистые убийства происходили ночью, жертвами подразумевались часовые. Я видел себя проворно и беззвучно, как кошка, возникающим из темноты и в последний момент что-то произносящим, издающим звук, чтобы дать бедняге Фрицу шанс. Он, потянувшись за винтовкой, испуганно тараща глаза, резко обернется, а я, прежде чем вонзить нож, хладнокровно улыбнусь ему в лицо, и он с гаснущими глазами, издав слабый булькающий звук, повалится на траву в лужу собственной черной крови; по каске, словно удивленный глаз циклопа, спокойно скользнет набежавший луч прожектора. Спешу заявить, что мне в жизни не приходилось никого убивать, во всяком случае собственноручно. Правда, у меня был револьвер, которым я страшно гордился. Шестизарядный, калибра 455, «Уэбли VI» военного образца, одиннадцати с четвертью дюймов длиной, весом тридцать восемь унций, английского производства, который наш стрелковый инструктор в Бингли называл красавцем. Никогда в жизни я не держал в руках более серьезной вещи (за одним само собой разумеющимся исключением). К нему полагалась довольно замысловатая кобура, к которой он прикреплялся сыромятным кожаным ремешком, ужасно вонявшим в сырость и жару, что в моем представлении было запахом мужских качеств: бесстрашия, рисковости. Хотя я был бы рад отвести душу в отчаянной стрельбе («Бешеный Билл Маскелл разбушевался»), такой возможности мне не представилось. Это оружие где-то у меня до сих пор. Надо поискать; уверен, что мисс Вандельер будет интересно взглянуть, если это не покажется надоедливым фрейдизмом.
Какую чепуху я несу? Эта склонность к болтовне меня беспокоит. Порой мне кажется, что я впадаю в маразм.
Мы с Ником пробыли во Франции, в Булони, пять месяцев. Нас ожидало глубокое разочарование. Работа оказалась именно такой, как обещал Билл Митчетт: следить за поведением военнослужащих экспедиционных сил в нашем районе. «Жалкие ищейки, вот кто мы», — негодовал Ник. Официально нам было поручено принимать меры против проникновения шпионов — при условии, как я полагаю, что знаешь, с кем имеешь дело; на деле же мы делили время между рутинным контрразведывательным делопроизводством и слежкой за личным составом батальона. Признаюсь, что я получал достойное отвращения удовольствие, просматривая солдатские письма домой; одержимость любопытством к личной жизни других — одно из основных качеств хорошего шпиона. Но это удовольствие скоро приелось. Я глубоко уважаю английского солдата — говорю это не ради красного словца, — но его эпистолярный слог, боюсь, не принадлежит к заслуживающим восхищения достоинствам. («Дорогая Мэвис, ну и дыра этот Болон (вычеркнуто, разумеется, моим синим карандашом). Всюду лягушатники (вычеркнуто), и не найти пинты приличного пива. Интересно, надела ли ты сегодня на ночь свои кружевные трусики. Фрицами (вычеркнуто) здесь не пахнет».)
Булонь. Несомненно, есть люди, знатоки вин и лакомки, обожающие яблочные пироги, не говоря уж об искателях плотских утех по выходным дням, чья кровь закипает при упоминании этого беспорядочного портового городишка, но лично я, когда слышу его название, с содроганием вспоминаю ни на что не похожее сочетание скуки, отвратительного настроения и вспышек ярости, которое я испытал за пять месяцев пребывания там. Из-за моего владения языком мне, естественно, была отведена неофициальная роль офицера связи с французскими властями, военными и гражданскими. До чего ужасный тип этот ваш типичный француз — как только Пуссен позволил себе стать сыном такого тупого, реакционно настроенного народа? И среди этих типов нет ничего ужаснее мелкого провинциального чиновника. С военными было все в порядке — конечно, обидчивы и всегда замечают малейшее пренебрежение к их благородному происхождению или званию — мне даже удавалось ладить с представителями четырех отдельных полицейских служб, с которыми я был вынужден иметь дело, но булонские бюргеры меня доконали. Известна особая поза, которую занимает француз, если он решает самоутвердиться и не желает сотрудничать; едва заметные перемены — голова повернута чуть влево, подбородок поднят на миллиметр, взгляд старательно устремлен в пространство, — и можно не сомневаться в его непреклонной решимости.
Мои трудности страшно забавляли Ника. Именно здесь, во Франции, он, обращаясь ко мне, стал называть меня «доктор», причем издевательским тоном ученика, выводящего из себя незадачливого учителя. Я терпеливо переносил его насмешки; такова цена, которую приходится платить за интеллектуальное превосходство. Мы оба были в звании капитана, но благодаря непонятным ловким иерархическим ходам, которые до сих пор остаются для меня загадкой, с самого начала подразумевалось, что старшим является он. Правда, его, по-видимому, считали кадровым офицером — наша связь с Департаментом держалась в секрете даже от офицеров нашего округа, хотя очень скоро стало известно, что я один из выпускников Бингли, племени, презираемого в экспедиционном корпусе, где мы считались кем-то… ну, вроде филеров. Ник нажал где надо и раздобыл нам на двоих ордер на постой в обветшалом особнячке, зажатом между мясной и бакалейной лавками, на крутой, мощенной булыжником улочке близ собора. Дом принадлежал мэру города. По слухам, до войны он держал там вереницу любовниц; и правда, в этих тесных комнатах с высокими потолками, множеством перегородчатых окошек и кукольной мебелью витало нечто утонченно порочное, что-то от Малого Трианона. Ник немедля добавил смысла к этой изящной атмосфере, обретя любовницу в лице мадам Жолье, одной из тех ярких, хрупких, безупречно одетых женщин, далеко за тридцать, которых Франция, похоже, производит на свет в готовом виде, утонченными, элегантными, зрелыми, словно им не доводилось быть юными созданиями. Ник по вечерам украдкой впускал ее через маленький садик позади дома, выходивший в заросший сиренью переулок, и она, надев фартук, принималась готовить на троих — ее фирменным блюдом был omelette aux fines herbes[21], — я тем временем сидел за покрытым клеенкой кухонным столом, смущенно вертя в руках бокал со сладким сотерном, а Ник в расстегнутом френче, сунув руку в карман и скрестив ноги, с сигаретой в зубах стоял у раковины, подмигивая мне и слушая болтовню бедной Анны Мари о лондонских модах, герцогине Виндзорской и о своей поездке в Эскот одним неправдоподобно прекрасным летним днем бог знает сколько лет назад. «А эта война, эта ужасная, ужасная война!» — восклицала она, поднимая очи к потолку и смешно раскрывая рот, словно скорбя по ушедшей погоде. Мне было жаль ее. За безупречной внешностью уже проглядывался страх красивой женщины, замечающей первые шаги уходящих лет. Ник называл ее военным трофеем. Я не собираюсь вдаваться в подробности их связи. Бывали ночи, когда мне приходилось прятать голову под подушкой, чтобы не слышать звуков, исходивших из спальни Ника, и нередко мадам Жолье выходила по утрам с искусанными губами и черными кругами под глазами — свидетельствами рабской преданности, которые не в состоянии скрыть никакой искусный макияж.
Это было странное сожительство — в зыбкой атмосфере не подтвержденной словами интимной близости, отмеченной постоянным ожиданием сдерживаемых слез. В такой почти жизни было нечто приятно неестественное. На мой взгляд, это было карикатурное подобие того идеального семейного хозяйства, какое я никогда не встречал в реальной жизни. Мы с мадам Жолье, естественно, образовали союз — Ник был для нас чем-то вроде ребенка. В этом пряничном домике в глубине Рю дю Клоатер мы, и она и я, ощущали себя парой непорочных единокровных возлюбленных, счастливых в своем предназначении — она с мутовочкой для сбивания сливок и яиц, я со своим синим карандашом. Городишко отгородился от зимы и от войны. Дни были короткие, скорее не дни, а длинные туманные сумерки. С севера толпились большие свинцовые облака, в окнах тоскливо вздыхал ветер, колыша пламя свечей мадам Жолье, страшно любившей создавать романтическую обстановку и зажигавшей их к каждой трапезе. Когда я оглядываюсь в те времена, в памяти всплывает запах пчелиного воска, острый аромат ее духов и, на заднем плане, слабый запах горячего газа — так много времени мы проводили на кухне, — едва уловимое зловоние канализационных труб и отдающий сломанными хризантемами затхлый дух кафельных полов, всегда влажных от конденсата, так что и сам дом будто постоянно был покрыт холодным потом.