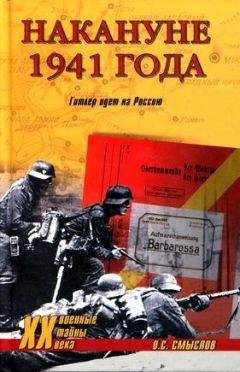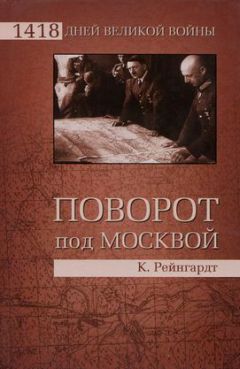Игорь Шенфельд - Исход
Буглаев, не почувствовав вкуса, выпил водку, которую ему протянул в стакане невозмутимый помощник Бермана Чердаченко, взял какие-то бумажки… ах, да: талоны на обед…, затем спустился в столовую, как велено было, поел там, украдкой вылизал тарелку, вспомнил вдруг, что у него два талона, поел еще раз, повторно вылизал тарелку, поплакал в нее без слез, потому что талоны кончились и потому что он закосел, еще посидел, заначил в карманы весь хлеб из хлебной чашки, и попросил у энкаведешной официантки карандаш. Он взял бумажную салфетку из вазочки — тут были бумажные салфетки в вазочке! — и начал писать бессмысленное письмо Лизе. Но салфетка порвалась, и тут за ним явился какой-то долговязый дневальный в длинной шинели и повел Бориса на коптильню, которая оказалась недалеко. Там от вони даже у приблудных котов под забором слезились глаза, но Буглаева эта вонь ласкала как французские духи, которые можно пить, и он пил их глубокими вдохами, пытаясь наесться рыбки хотя бы через легкие. Его завели в какой-то закуток, где стояло штук двадцать топчанов и топилась железная печка по центру, а потому было очень жарко, как в аду, который в данном конкретном случае Буглаев спутал с раем. Он упал на указанный ему топчан и заснул на лету. Он не слышал, как дневальный раздраженно сунул ему под спящую голову тюк с одеждой. Наутро в тюке обнаружились солдатские галифе, заштопанная тельняшка, старый свитер с мелкой рыбьей чешуей, набившейся среди петель, бушлат с одной пуговицей, но целым внутренним карманом, а главное — валенки: расплющенные и облезлые, как старые бездомные коты, но восхитительно теплые, домашние, ласковые. Мало того: в валенки засунуты были носки ручной вязки, совершенно новые, из собачьей шерсти. Только взяв их в руки, Буглаев понял, что над ним свершилось чудо. Охватить это чудо умом было бесполезно, как бездонность Вселенной, и Буглаев не стал насиловать свое воображение: он просто с наслаждением переоделся, нашел под койкой шапку-ушанку, которая тоже принадлежала ему, как оказалось, и спросил у ребят дорогу до городского Энкавэдэ. Ребята показали рукой и смотрели на Буглаева с сочувствием. «Сам пойдешь к ним, что ли?», — поинтересовался кто-то. Борис не ответил: он все еще не очень четко соображал. Было вообще очень странно, что рабочим удалось его разбудить, и что он вспомнил где он и что ему нужно делать дальше.
Буглаев пошел в указанном направлении, и ноги его шли все быстрей, а сердце билось все громче: он начинал верить, что все происходящее с ним — правда, и одновременно писклявый внутренний голос стал требовать, чтобы Борис не шел в НКВД, а делал ноги, убирался подальше от этой подлой и опасной организации. Однако у писклявого голоса тут же нашелся грубый, хриплый оппонент, который приказал писклявому заткнуться, а Буглаеву — неукоснительно двигаться дальше. Оппонент прозвучал намного авторитетней писклявого, и Буглаев прибавил шагу: ведь он реабилитирован, сказал Берман. Он ре-а-би-ли-тирован! Он почти свободен, черт возьми! Милиционер на перекрестке подозрительно посмотрел на спотыкающегося мужика, куда-то спешащего и что-то вздорно бормочущего себе под нос. Постовой даже пару шагов сделал навстречу мужику, но поскольку тот увидел милиционера и не испугался, то у мента пропал интерес: чапает себе куда-то ханыга похмельный — ну и пусть себе чапает. Сам вчера утром такой же был…
Борт на Хабаровск был не простой борт: на нем летело колымское золото для союзников, которые за это золото продавали Советскому Союзу грузовики и тушенку, и таким вот своеобразным образом беспощадно боролись с фашизмом. Кажется, это называлось у них — Второй фронт.
Таким образом, Буглаев летел в самолете вместе с золотом. Буглаев был на вес золота!..
Дальше, в город Свободный Буглаев ехал из Хабаровска совершенно один, без конвоя, и гадал в дороге, что это за трудармия такая замечательная для немцев-предателей, куда его откомандировали вольным стилем? Хуже ли там будет, чем на Колыме, или лучше? И тут же сам себе отвечал: «Конечно, лучше! потому что хуже чем там все равно не может быть нигде и никогда».
И потом, главное: он же реабилитирован! Судимость снята, или будет снята в ближайшее время решением суда по ходатайству Бермана. Так он ему пообещал, во всяком случае… А трудармия — это, наверное, типа поселения что-то… Ладно, на месте видно будет…
На хабаровском вокзале он в ожидании поезда все же написал большое письмо жене Лизе (или уже бывшей жене?), рассказал о себе, что он жив-здоров и едет на поселение; написал, что его реабилитировали и переводят в какую-то трудармию, подробности о которой он сообщит позже; написал, что путешествует совершенно свободно, без конвоя, свободно пьет чай, и что родина ему опять доверяет. Однако, письмо это Буглаев из Хабаровска отправить не решился, мучаясь сомнениями, помня, как Берман расспрашивал про Лизу и опасаясь, что ей и дочке это его письмо может навредить. Сначала нужно все разузнать…
И вот теперь, в поезде, Буглаева изводил постоянный соблазн отослать все-таки это бесценное письмо, или телеграмму дать. Буглаев всеми силами сопротивлялся этому соблазну: нет, пока нельзя. Нужно узнать сначала, что это за трудармия такая.
«А вдруг из этой самой трудармии писать не положено?», — ожгла внезапная паническая мысль. Она решила все: на ближайшей станции Буглаев побежал в вокзал и опустил письмо. Он послал его на старый адрес, по которому они жили раньше: авось дойдет до Лизы — даже если они и переехали. Авось дойдет…
Но все это Аугуст узнал от Буглаева уже в дороге. А дорога их началась еще в тот же день.
У Бориса Буглаева за все эти годы сложились разного рода бригадирские связи, в том числе и за пределами лагерных ворот, так что не «пердячим паром», как большинство «рядовых» демобилизованных, а верхом на грузовике, «белыми людьми» отправились два бывших лагерных бойца в широкий, свободный мир, ворота в который распахивались для них из города Свободный. Шофер сгрузил их где-то на городской окраине, и они пошагали в сторону центра вдоль полотна железной дороги, прикинув, что где-то при рельсах обязательно обнаружится станция с билетной кассой и пивом в буфете, которого они обязательно, первым делом и «всенепременно» должны испить: «Как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия!», — с нетерпением приговаривал Буглаев, все ускоряя шаг. Аугуст удивлялся: этот спокойный, размеренный человек, всегда внимательный, всегда готовый к защите или нападению, был неузнаваем на свободе: стал суетлив, повторял что-нибудь по нескольку раз, плел чушь, то впадал в состояние, близкое к злобной истерике, то смотрел в никуда и не слышал о чем его спрашивают. Потом снова колотил Аугуста в плечо чугунным кулаком: «Ну что, Януарий: хороша свобода, что скажешь? Ах, хороша свобода!.. особенно для гражданина Советского Союза, вышедшего из заключения… в лохмотьях…».
Одеты они были, конечно, как распоследние висельники, и зоной от них перло, как из тюремной параши, но зато в карманах у них лежали бумаги, дороже которых не бывает на белом свете: справки о демобилизации. Бумаги, имеющие цену Свободы!
— А в каком шикарном костюме меня забирали! — сокрушался Буглаев, осматривая свое лагерное рванье, — костюмчик, как у Чичикова: в искорку, московский пошив, рубаха с запонками из полированного дуба! Эх! Просил чекистов сохранить, нафталином пересыпать… Куда там! Все скоммуниздили, передовой отряд…». Аугуст пугливо озирался, а Буглаев хохотал: «Что, боишься? А на зоне ничего уже не боялся, правильно? На свободе-то пострашней будет, а? Может пойдем, назад попросимся? К блатным в барак, например. Их там еще кормят. И Сталина ругай — не хочу. А, Януарий?».
— Болтай меньше! — попросил его Аугуст, — а то и правда развернут, тьфуй-тьфуй…
— Не бойся, Август Януарьевич, ни икса, ни игрека не бойся больше: ничего с нами теперь не сделается. На свободе мы, понимаешь? На воле! Делай что хошь, начинай жизнь с нуля! Что называется: «Хочешь — сей, а хочешь — куй: все равно получишь… наслаждайся, короче…», — с высокой точки возбуждения Буглаев вдруг снова потух, впал в прострацию и топал молча, тупо глядя в землю.
Но показался впереди вокзал, и своим облупленным видом привел Буглаева в новое вдохновенное состояние: «Вот он, наш с тобой трамплин в новую жизнь!», — воскликнул он. Аугуст тоже разволновался: «А если билетов нету?». — «Тогда полетим по воздуху вслед за паровозом на быстрых портянках наших, бесплатно пользуясь его паром… но сперва — пиво! Бочку пива!», — и Буглаев попер вперед как трактор под гору. Жажда летела на шаг впереди двух лагерных дембелей и поторапливала их: «быстрей, быстрей!». И они успели: пиво в буфете еще было, и отпускалось за деньги, а не по талонам. Аугуст пить пиво отказался: не пристрастился как-то в предыдущей жизни. Он спросил робко нет ли кофе, но буфетчица даже вопроса его не поняла. Буглаев же выпил четыре кружки подряд — по количеству захваченных бокалов, ибо наливали только в буфетные, «фирменные» бокалы и строго следили, чтобы кто-нибудь не приперся со своим, «левым», фальшивым. Буглаев выпил четыре кружки и помчался за следующими, поскольку, объяснил он, пустые кружки надо передавать другим ожидающим в очереди, а он этого делать не собирается. Пиво пили, пока оно не кончилось. Сколько Буглаев ухитрился в себя влить, Август определенно сказать не мог: что-то кратное четырем — уж это точно. Когда пиво в буфете кончилось, наконец, Буглаев оказался пьян, а за столиком их было уже трое. Откуда-то из подвала, из уборной, в которую Буглаев бегал все чаще и чаще, пока Аугуст стерег его кружки, Буглаев привел вдруг писсуарного собрата на деревянной ноге, у которого деньги кончились, а жажда еще была. Две кружки из четырех перешли теперь в руки Федора — так звали нового друга. Федор постукивал деревянной ногой, как черт копытцем, говорил о себе «мы, фронтовики», а Аугуста называл сокращенно «Ян», переиначив из услышанного от Буглаева шутливого «Януарий».