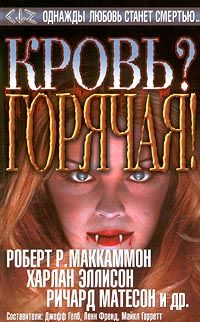Альфред Дёблин - Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу
— Все-таки ты книжный червь, дядя!
— Согласен! Но и природу я люблю: снег, деревья, тайну времен года, и то, как они влияют на нас и как мы меняемся вместе с ними. Прекрасно быть частицей природы, Эдвард. Прекрасно ощущать себя участником необъятной жизни, будучи человеком, деревом или зверем. Особенно ясно ощущаю я это во время путешествий… пейзажи меняются, и тогда я думаю, что до сих пор не знал, как огромен дом, в котором я живу.
— Странно. Я этого никогда не замечал.
— В молодости и мне многое было чуждо. Сперва человек замыкается в себе. Только постепенно он раскрывается. Мы медленно приобщаемся к миру, и это своего рода внутренняя сверхзадача, которая перед нами стоит; мы сливаемся с окружающим, с действительностью. Жизнь с ее красотами выманивает нас из собственной скорлупы. Она заставляет вылезти на свет божий наше маленькое глупое «я».
Эдвард слушал. Профессор, на чьем лице играли белые отсветы снега, спокойно и гордо откинул голову на спинку кресла, его благородный профиль с твердым маленьким ртом оказался как бы в деревянной раме. Он сказал:
— Мудрость эту, как и многие другие здравые мысли, я вынес из своего путешествия в Индию. Даже если мы не можем воплотить все эти мысли в жизнь, хорошо держать их в памяти. Постепенно они все же оказывают действие, доходят до сознания. Различные запомнившиеся мне мудрые изречения формировали мою личность в неменьшей степени, нежели красота античных статуй. Выслушай одну сентенцию. Речь пойдет о просветлении, о том, как человек приходит к просветлению. Он приходит к нему через внутреннюю сверхзадачу, о коей я уже упоминал, через превращение одного в другое. И тогда дуализм — я и мир — преодолевается. Так вот, в Индии говорят:
Каждый из нас идентичен универсуму. Каждый человек живет лицом к лицу с универсумом. Каждый вкушает переливающиеся через край милости творца. Жизнь — это вовсе не безбрежное море недугов, родовых схваток, старости, смерти, не долина слез, a sakhavadi[12], долина блаженства. Если принять это, то наш дух преображается, его уже не терзают больше зависть, ненависть, злоба, тщеславие, и он не подвержен ни печали, ни отчаянию. Этими мыслями я уже много лет ежедневно утешаю себя, Эди.
— Рассказывай дальше, дядя. Ничего этого я не знаю.
— Тебе по душе мои слова? Я рад. Позволь мне сделать небольшое замечание: ты читал нам вслух Кьеркегора. Это было прекрасно. Кьеркегор ищет правду. Ты ищешь правду. Настаиваешь на честности. Но как ты доберешься до правды, если в твоем желании сквозит слишком много страстности? Истина недостижима без расслабления, без раскованности.
— Недостижима без расслабления?
— Да, все начинается с того, что человек осознает свою скованность: скованность своего «я» и своих помыслов. Надо отстраниться от всего этого и прийти к освобождению. Это должно упорядочить отношение человека к миру. Пусть и тогда наши поступки не достигнут вершин совершенства, все равно они станут более зрелыми и умными, более достойными нашего разума. Я расскажу тебе притчу, которой давно услаждаю себя:
Человека, счастливо вернувшегося из долгих странствий в чужедальней стране, приветствует толпа друзей и родственников. Точно так же встречают того, кто правильно жил, после переселения из этого мира в другой собственные добрые дела; они окружают его подобно тому, как друзья окружают близкого друга после его возвращения на родину.
Эдвард и Маккензи, брат Элис, молча лежали в креслах, и снег за окном бросал на них свои блики. Время от времени свистел ветер, и тогда рыхлый снег слетал с ветвей и скользил по окну, а черные ветви, словно жалуясь на потерю драгоценного наряда, качались вверх и вниз.
— Женщины не играли роли в твоей жизни, дядя?
Брат Элис не удивился вопросу, он сказал вполголоса:
— Женщины играли. Но не Женщина. Судьба меня пощадила от этого… Судьба или мой характер.
— Я не знал, что ты так похож на маму.
— Эди, теперь ты все воспринимаешь по-новому. Раньше ты со мной редко беседовал и с другими тоже. У меня сложилось впечатление, что ко всем нам у тебя не лежит душа. Я огорчался потому, что ты мне нравился. Меня трогала твоя неприступность и то, что ты всегда был такой хмурый, держался особняком. Но ты никого не подпускал к себе. В этом и сказывалась скованность твоего «я». Ну, а теперь, после того, как ты повидал полмира, войну, смерть и самого дьявола, ты стал многое замечать, в том числе и меня.
— Что представляет собой семья, дядя?
— Давай лучше любоваться снегом. Посмотри на снег, Эди.
В саду ничего не происходило. Мягкий волнистый снег покрывал землю, по нему не ступала нога человека. Стволы деревьев были укутаны лишь с одной стороны, другая сторона оставалась голой. Странное впечатление производили на белом фоне эти черные заставки… будто на бумагу нанесли какие-то неведомые строчки. А снег с его первозданной белизной не походил на покрывало: это было какое-то странное вещество, появившееся неизвестно откуда и воссоединившееся с землей, с деревьями, равномерно побелившее их, вступившее в ними в какие-то свои отношения. Все сущее говорило со снегом.
«Я тебя никогда не видело, — сказало дерево. — Ты, собственно, кто?»
«Мы — снег. Снег, снег».
«Откуда вы явились? Чего вы хотите?»
«Мы — снег. Снег, снег. Ты нас знаешь. Мы часто прилетали сюда. За лето ты нас забыло».
«Чего вы хотите?»
«Мы тебе нравимся?»
«Вы такие легкие. О снег, снег. Вы такие легкие. Прильните к моим корням».
«Зачем?»
«Вы такие нежные. Я хочу погладить вас. Хотя мои ветви лишены осязания».
«Что ты хочешь сделать с нами, о дерево, дерево! Мы ведь можем растаять. Ты хочешь попробовать нас на вкус. Оставь нас».
Профессор повернулся к Эдварду.
— Между человеком и природой не должно быть слов. Слова, понятия — все эти застывшие категории только мешают. Они не дают нам возможности соприкоснуться с неживой материей. Человеку надо стремиться к тому, чтобы избавиться от слов. И тогда мы освободим себе путь к природе.
— И во что мы превратимся?
— Многое от нашего «я» уйдет, но от нашего дурного «я». Останется вполне достаточно.
— В этом и состоит, как видно, очищение. Но где будет мое «я»? Мне приходится спрашивать тебя, так же как я спрашивал отца, как я спрашивал других во время долгой беседы об иллюзорном мире. Как мне познать свое истинное «я»?
— Сперва освободись от беспокойства.
— Тогда я не смогу искать, беспокойство необходимо. Да и как можно не беспокоиться, если тебя что-то гложет, заставляет постоянно спрашивать, думать, если ты не находишь себя.
— Это твоя болезнь, Эдвард. Но ты поправишься.
— Нет, это не болезнь. Я не согласен.
— Брось все это, Эди. Гляди на снег. Пусть окружающее найдет к тебе дорогу.
Эдвард ничего не ответил Маккензи. Он молча смотрел в сад, но не для того, чтобы, как думал профессор, слиться с белой пеленой.
Почему меня угораздило попасть в этот дом? Все здесь обманщики, один хитрей другого. Каждый норовит обвести меня вокруг пальца… можно подумать, что они вступили в союз против меня. Этот хочет усыпить мое сознание, да еще так решительно. Я, видите ли, не должен спрашивать. Должен лежать в своем кресле и смотреть на неживую материю. Должен умолять сущее, чтобы оно проникло в меня. Зачем мне это надо, зачем снегу проникать в меня? Чтобы окончательно погрести меня под собой? Все они хотят сбить меня с толку. Но я вас раскусил.
Я кажусь себе Гамлетом, ему лгут, его развлекают, наконец, его посылают путешествовать, и все это потому, что его боятся, — ведь он знает, что произошло на самом деле.
А я ничего не знаю. Мне не являлся призрак, чтобы открыть ужасную тайну. Со мной никто не поговорил. Я только догадываюсь. Они выдают себя на каждом шагу.
Эдвард повернулся к профессору.
— Что ты думаешь о Гамлете, дядюшка? Ты занимался им?
— Не больше, чем любой англичанин.
— Разве Гамлет не великолепен? Он не дает им передышки, донимает их, до всего докапывается. Да, он все знает. Но как они пытаются его обмануть, отвлечь. Все равно он остался хозяином положения.
— Ты прав, Эди. (К чему он клонит?)
— С твоей стороны было бы замечательно, если бы ты рассказал нам историю Гамлета.
(Что он затеял? Зачем ему понадобился Гамлет? Неужели Элис посвятила его в свои домыслы? Это было бы преступлением.)
— Эди, я могу рассказать тебе только то, что знает каждый школьник. Разве ты забыл сюжет?
— Я помню его весьма приблизительно. Скажи, дядюшка, как бы развивались события, если бы в самом начале не появилась тень отца Гамлета и не поведала сыну обо всем случившемся? Гамлет ведь наверняка и сам что-то подозревал? Или нет? Он старался все выведать.
— Думаю, действие развивалось бы точно так же, как в пьесе.