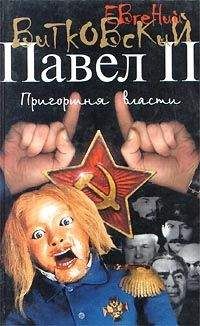Иванна Жарова - Изамбар. История прямодушного гения
Так и началось, монсеньор. Кошка зацепила его своим когтем, и дурачок попался на крючок. Он приходил к ней с лютней каждый вечер; они играли и пели вместе. Хищница растягивала удовольствие, купаясь в лучах обожания невинного мальчика, упиваясь своей властью над его чистым сердцем, растоптав его ясный ум, теша свою гордыню мыслью о том, что целомудренные девицы из благородных семейств, те, которых он не удостоил и взгляда, предпочтя ее, презренную и порочную, до крови кусают свои нежные губки.
Меня поразило, что наш учитель смотрел на все это сквозь пальцы. Правда, он увлеченно сочинял и для лютни, и для органа. В ту весну из-под его пера вышли самые прекрасные хоралы и глоссы, какие мне только доводилось слышать. Я допускаю, что ревнивая муза требовала всего его внимания и не позволяла отвлекаться на болтовню вокруг. Ведь по всему городу – и на улицах, и в церкви, и в самом его доме – шептались, трещали и судачили об одном и том же, а имена Изамбара и Виттории повторялись так часто, что могли прожужжать до дыр даже глухие уши.
Я несколько раз порывался рассказать обо всем мастеру, пока этого не сделали другие, и сдерживался лишь из трепета перед его вдохновением. Когда он сочинял свою музыку, всякий, кто осмеливался отвлечь его, рисковал головой буквально, ибо в комнате учителя было полно тяжелых предметов. Но однажды «досточтимый» сам дал мне повод.
Как-то в полуденный час, проходя мимо учительской двери, на этот раз приотворенной, я был замечен и окликнут. Наверное, мастер закончил новый шедевр и ему не терпелось разыграть тему в две лютни. «Позови-ка мне Изамбара, – сказал он бодро и, покосившись на окно, заливавшее комнату весенним солнцем, от которого птицы щебетали еще живее, а детвора носилась по улице с щенячьим визгом, прибавил добродушно: – Если он, конечно, дома… Погода сегодня как нарочно для прогулок!»
«Изамбар спит, учитель, – ответил я, сознаюсь, не без скрытого злорадства. – Крепче, чем медведь в Сочельник. Его теперь хоть ногами пинай – не добудишься. Ему нынче не до прогулок».
«В самом деле? Да ты шутишь!» – не поверил учитель.
«Надо же ему и спать когда-то, – торжествовал я. – Гуляет он теперь по ночам, а утром – ранняя месса. Изамбар послушный ученик. Он соблюдает твое правило четвертого часа, так что, сам посуди, ложиться ему и не приходится. А вчера было воскресенье, днем – обедня. Он не спал двое суток и все-таки разучил с нами твой новый распев пятидесятого псалма, как ты велел ему. Мы вернулись из собора час назад, и Изамбар сразу свалился как убитый. Но можешь не сомневаться, в половине четвертого пополудни он встанет, к четырем – самое позднее, потому что в семь – вечерня и надо быть в голосе. Он уже привык».
«Бедный мальчик! – воскликнул учитель, всерьез беспокоившийся о здоровье Изамбара и в душе не одобрявший ни его постов, ни бдений над книгами. – То-то он был сегодня так бледен! Зачем же он себя мучает?! К чему эти ночные похождения?»
«Не „к чему“, а „к кому“, учитель. Об этом знает весь Гальмен. Если тебе в самом деле интересно…» – И я выложил ему все с самого начала, не скупясь на яркие краски. Я ожидал от старика вспышки ревности, нарочно упирая на то, что его любимый ученик изменяет ему как музыкальный партнер, да еще с куртизанкой. Но ничего такого не произошло. Учитель сделался задумчив и печален.
«Что ж, – сказал он выразительно. – Мальчик становится взрослым».
Я спросил, не находит ли он, что Изамбар позорит его на весь город, и не желает ли поговорить со «своим мальчиком» по-мужски, разъяснить ему, с кем его угораздило связаться, и, в конце концов, воспользоваться своей учительской властью, которую Изамбар столь высоко чтит и которой добровольно обещал повиноваться.
Учитель посмотрел на меня так, будто я на его глазах превратился из человека в насекомое.
«Ты дурак, – произнес он с оттенком брезгливости. – Да к тому же, кажется, и подлец. Поди прочь, я видеть тебя не хочу!»
«Но учитель! – взмолился я, глубоко уязвленный. – За что? Объясни!»
«А если ты посмеешь лезть к нему со своей чушью, – прибавил он зло, словно не заметив моего возгласа, – я тебя… я знаться с тобой не стану! Оставь его в покое! Тебе не понять… У тебя сердце мелкое, скупое. Ты никогда не полюбишь. Тебе не дано».
Если учитель хотел сделать мне больно, то у него это получилось. Я так и не понял за что. Но он напрасно думал, что после таких слов я пойду у него на поводу. Похоже, он спутал меня с Изамбаром. Я же лишь утвердился в мысли, что последний нуждается в разъяснениях. Из нас двоих в данном случае я считал дураком отнюдь не себя.
Повод опять представился мне сам собою, не далее как через пару дней, когда Изамбар и Витториа вместо вошедших у них в обычай игры и пения имели меж собой разговор на ее родном языке, не очень долгий и не особенно приятный. Как раз в эти дни весь город зашептался о том, что в гостиницу к рыжей бестии потянулись жаждущие ее прелестей и она занимается с ними своим ремеслом. Сальные улыбки мужчин и гневные взоры женщин сверкали так, словно завидовали золотым монетам, которыми Виттории платили за ее пленительное искусство.
Никак нельзя сказать, что Изамбар с нею ссорился. В ее же голосе, подобном медной трубе, я слышал и вызов, и злое наслаждение. Она знала, что может мучить его безнаказанно и он все стерпит, потому что влюблен без памяти. Она осыпала его насмешками, в ответ на которые он простился с нею еще нежнее обычного и тихо вышел. Поняв, что Изамбар идет домой, я поспешил вперед, чтобы успеть раздеться и прикинуться спящим. Двое других учеников как раз уехали погостить к родным, и мы с Изамбаром спали в комнате вдвоем.
Было полнолуние. Огромный лунный лик заглядывал прямо в окно нашей спальни. Сквозь полуприкрытые веки я наблюдал, как Изамбар забрался на свою постель, прижал колени к груди и обнял их руками. В ярком серебряном свете я отчетливо увидел слезы на его глазах. То было в первый и последний раз. Я не считаю тех кровавых слез, что он пролил здесь, лежа под плетьми, – мы били его так, что кровь выходила везде, где только находила отверстие, и его глаза плакали вместе со всем телом. Но я видел и слезы его сердца, чистые, прозрачные и такие же беззвучные… Не знаю, когда ему было больнее, но знаю, что сердце его плакало не от обиды за себя, а от боли за ту, которую любило. Хоть наш учитель и сказал, что мне этого не понять, когда я увидел слезы Изамбара, я почувствовал его, как если бы он пел, будто на миг отрешился от себя и стал им. Это было невыносимо. Если бы я был им дольше одного мига, я завыл бы волком, я катался бы по земле, я пошел бы и убил женщину, заставившую меня так мучиться. А он сидел чуть дыша, сжавшись в комочек, смотрел на луну сквозь слезы и, наверное, просидел бы так, не шелохнувшись, до рассвета. Я не мог выдержать даже вида этого безмолвного страдания. Я заговорил с ним. Но если вы думаете, что я хотя бы попытался его утешить, вы заблуждаетесь.
«Готов поспорить, ты встретил у нее другого мужчину, – сказал я ему. – Чего же ты ждал? Она пользуется успехом. Скоро к ней будет ходить весь город. Эта кошка гуляет со всеми, кто платит. Ты тоже можешь взять у учителя денег – вы ведь довольно заработали вместе, и он даст столько, что тебе хватит, – взять денег и пойти к ней. Увидишь, разговор тогда будет совсем другой – она сделает все, что ты пожелаешь, исполнит любые твои прихоти, а соперники будут дожидаться за дверью, соблюдая порядок очереди. Не суди ее слишком строго: она зарабатывает на жизнь. Ведь жизнь стоит денег, сам знаешь! Не отказывать же ей теперь покупателям, которые щедро платят за ее товар, только из-за тебя и твоей лютни! Это хорошо в свободное время, но, вообще-то, пора бы тебе понять – ее время дорого. Или ты желаешь ей голодной смерти?»
Он повернул ко мне мокрое лицо, и я видел, как глубоко вонзаются мои острые, ядовитые слова, но яд не действует, а боль лишь удивляет этого большого ребенка. Наш учитель ошибался: Изамбар и не думал взрослеть. Он не послал меня к черту, не съездил мне по физиономии, когда я нарочно издевался над ним, развенчивал и поносил священный для него образ. Он выслушал меня, не задаваясь вопросом, насколько осознанна моя жестокость и имею ли я на нее право.
«Да, я понимаю», – произнес он из глубины своего страдания, так, что мне стало ясно: вся его сила уходит на то, чтобы принять это понимание.
Но я не отступился. Мне хотелось вытащить его из глубины на поверхность, заставить увидеть мир и вещи такими, какими видят все люди. Я заговорил самыми грязными и желчными словами о Виттории, о куртизанках вообще, об искушенных в разврате женщинах, которые находят особое удовольствие, доводя до безумия наивных дурачков вроде него. Я со смаком расписывал сцены, что, вне всякого сомнения, творились в комнате рыжей бестии каждый день. Я знал толк в том, о чем говорил, ибо, в отличие от Изамбара, имел дело с куртизанками еще до приезда в Гальмен и знакомства с учителем.