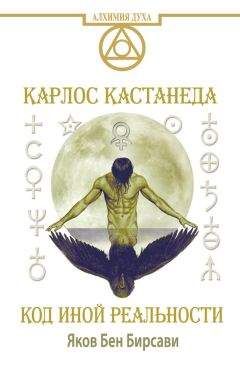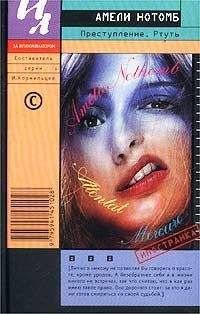Сергей Самсонов - Кислородный предел
Они уже были на месте, и Зоя долго, негодующе шипя, искала лазейку для парковки, просвет, между тюленьих и акульих туш могучих представительских авто; потом, поставив тачку на прикол, они вступили в густую тень скребущей шпилем небо ячеистой и рафинадной башни (типовая современная, отдельная, как будто выгороженная из мира, стерильная, функциональная вселенная, простейшая ритмика оконных проемов, ничем не нарушимая монотонность техногенного городского стандарта) и на мгновение отразились в зеркальных стенах парадного подъезда, и Сухожилов поразился острой, нестерпимой несуразности их пары: вот сам он, тощий волк, рисковый, предприимчивый захватчик, обколотый наркотической смесью страха и власти; извечный, урожденный одиночка с любовным голодом, напрасно обжигающим нутро, и грустными собачьими глазами, в которых тускло отражается однообразное будущее с опостылевшим скрипением активов на жвалах; вот рыжая Зоя, ставшая сумрачней, строже в предчувствии сшибки с заказчиком и вся как будто состоящая из чистой, жаркой, неприкасаемой свободы; изящное, простое, как вода, необъяснимое, как снег для бушмена, создание, чей путь пролегает мимо, насквозь, как будто поверх сухожиловского мира (со звериными тропками в безлюдном заснеженном поле) и чьи глаза глядят на сухожиловскую жизнь, как на быт бабуина сквозь решетку в зоопарке.
Под шаг его подлаживаясь, ступая рядом, она как будто все равно от него уходила — в ту сторону, где обитали существа, ей родственные, где было много смеха, трения носов, такой свободы, как у птицы или рыбы в выборе стихии и, как из детства, пахло мандаринами с рождественской елки. Но тут обратное вдруг померещилось ему, пока их отражение в парадном не растаяло и он не предъявил охране пригласительный на два лица, — как будто предназначенность, задуманные свыше соразмерность и пригнанность друг к другу его вот, Сухожилова, и Зои, и что тут было истиной, а что — неправдой, чего в их паре было больше, вот этой несуразности или вот этой предназначенности, уже не мог он угадать, сказать наверняка.
— А это надо разобраться, — вещал Сухожилов, когда они взмывали в бесшумном и прозрачном лифте, перевитом водными каскадами, — что вы еще творите там. А то, может, мы с моим троглодитом-заказчиком все делаем на пользу общества, избавляя его от заразы современного искусства. Вот так приглядишься немного, и редивелопмент твоей похабной галерейки в небольшой бизнес-центр класса «Б» благодеянием покажется. Тут как-то оказался на одном я вашем хэппенинге, и что я там увидел? Освежеванную Россию. Карту родины моей и одновременно схему разделки — вот огузок, вот кострец, грудинка, выбирай, и обращайся к плечистому рубщику, который тут же и стоит, с ножами, стопором, весь забрызганный кровью отчизны. Ну и как мне это понимать?
— Ну, это же про вас все, про тебя — не находишь? Ты видел только отражение процессов в обществе. То, что вы — пассионарии — наделали, то художник и отразил.
— А, может, я вырос таким, потому что меня воспитало такое искусство? Еще большой вопрос. Едем дальше, следующий зал, а там Достоевский собственной персоной. Обычный такой Достоевский, только в спущенных портках. Одной рукой отодвигает ситцевую занавеску и онанирует другой. За занавеской монитор, а на экране — три одних и тех же кадра подпольного детского порно. И, главное, какой фейерверк, какой роскошный веер смыслов.
— Ты прямо как мой отец.
— Это что — мне комплимент или напротив?
— А понимай, как хочешь.
— А кто отец?
— О, это страшный человек, Башилов, есть такой художник, ты не слышал? Как Бульба, дочери родной, единственной не пожалел. Проклял.
— Ну, это он зря. Мог бы просто — ремня.
— А ты меня никак перевоспитывать надумал?
— Ну, если мы с твоим батяней на одной волне… — Сухожилов с заговорщицким видом отвел Зою за угол и стал расстегивать ремень. Зоя дала ему по лбу.
— Вот здесь, пожалуйста, немного подождите.
Вот это да, на стульях — два мужика: один, тщедушный и очкастый, как заведенный взад-вперед раскачивается, сложив в замок между коленей намертво сведенные руки; второй сидит бездвижно, отрешенно, разглядывая потолок, — лобастый, рослый, с мощными лосиными ногами. И Сухожилов с ними третьим — как еще? Тупят, разглядывая пол и потолок попеременно. И ощущение удушья нарастает, а может, ощущение такое, как будто в легкие и кровь мгновенно, разом закачали кислород, который тебе предстоит перегнать через жабры за жизнь.
— Качаться, может, хватит, а? — лобастый, рослый первым не выдерживает, прикрикивает резко на очкарика. А тот — нервишки истончились до предела — взвивается, кричит высоким, тонким голоском:
— Пошел ты!
И наконец-то врач выходит к ним — другой, с курчавой плотной рыженькой бородкой, «интеллигентный», робковатый, заикающийся:
— Кто — молодая женщина, двадцать пять — тридцать лет?
И двое разом вскакивают, врача глазами поедая. И друг на друга глянули невольно — в одном глухом упорстве сломать чужую волю, загнать другого в хвост кратчайшей в мире очереди.
— Мы, доктор, оба — женщины. И обе молодые, привлекательные, — смеется Сухожилов, мускулом не дрогнув.
— О возрасте могли бы и не спрашивать — не принято, — и рослый, «борзый» Сухожилову — тон в тон.
— Не понял? — Глаза у «нового» врача тут округляются, хотя это признак, скорее того, что врач давно уже и напрочь разучился удивляться чему бы то ни было. — Вы — вместе?
— Вместе, вместе, — мгновения не поколебавшись, отвечает Сухожилов.
— Одна у вас?
— Одна, одна.
— Ну хорошо, идемте.
— Не понял — это как мы вместе? — «Борзый» на ходу в предплечье Сухожилову вцепляется. — Как «одна»?
— А сам подумай, как.
— А, понял, понял. Заходим вот одновременно.
— Именно.
В палату входят и по широкому проходу движутся между кроватями, среди мигающих зеленых, красных огоньков и мониторов, на которых с равномерным писком бьются пульсы чьих-то покамест чужих, обезличенных жизней. Вьются линии вечно кривые, торжествуя над снежной прямой; вспышки ломаных кардиограмм, торчащих восхитительно острыми углами, проявляются медленно и плывут по сереньким, пасмурным экранам, как отпечатки раскаленных добела вольфрамовых нитей в глазах. Вдвоем глазами ненасытно шарят по обе стороны прохода, вцепляются в запястья, хватают за щиколотки, с негодованием отметают чью-то обезьянью кисть, в упор не видят пухленькую икру, впиваются в открытые, безумные глаза с мохнатыми от гноя или опаленными ресницами.
— Сюда, пожалуйста, — подводит их врачишка к самому окну. — Вот рыжая.
И верно, верно, оглушительно, неотразимо — на койке у окна, как рыба на крючке, лежит, телосложения стройного, с поблекшими, из потускневшей меди будто волосами, с прозрачным кислородным шлангом в беспомощно открытом или насильно, может быть, разжатом рту, и ходят вверх и вниз гофрированные серые меха, вдувая жизнь в отравленные легкие. И ликование из Сухожилова тут рвется, как материнский вой, как самка к своему детенышу, и рослый, «борзый» тоже внутренне трепещет от восторга, и вечная частица примитивно-высшей, кроветворящей, нерассуждающей любви проходит сквозь него, сквозь них, но вдруг как будто замыкает провода, и оба тут уже стоят, склонившись над кроватью, с одинаковыми, обугленными словно лицами. И врач на них взирает вопросительно, все понимая, и рты уже кривятся у обоих от гадливости — подсунули эрзац, обжегший до кишок топорной приблизительностью сходства.
— Нет, не она, спасибо, — «борзый» внятно констатирует.
Наружу выбравшись, как по пескам зыбучим, Каракумам, вдвоем шагают по аллее, и тополиный пух, как снег, вокруг порхает.
— Не понял, — говорит вдруг «борзый», — а что это мы двое на одну?
— Так вместе, чтоб не ждать, без очереди.
— Да нет, другое — почему на рыжую?
— А это у тебя спросить. Я — рыжую, а ты какую там, не знаю.
— Да я это рыжую, я.
— Ну, мало, что ли, крашеных?
— Да почему же крашеных? Мой натуральный цвет.
— И мой. Бывает.
— Веснушки до сих пор, — уже как будто сам себе тут «борзый» говорит. — Нет, стой ты, подожди. Да стой, Рональду, стой. Или тебе подножку — так привычнее? Ну? Еще с прямой ногой ты на меня, три месяца назад, «Инвеко» против «Эдельвейса», потом еще исчез куда-то.
— А я-то думаю, а что меня в тебе так раздражает? А это ты, противник неудобный.
— И мы по рыжим, значит, оба?
— Но только мы о вкусах одинаковых не будем преждевременно.
— Я тоже думаю — как небо и земля. Нет, господи, не понимаю, вся жизнь, она как под стрелой, где «не влезай — убьет», как медом ей намазано. В машине кубарем, живая чудом — опять за руль — расслабься, говорит.
— В машине? Кубарем? — Что-то щелкнуло в башке у Сухожилова, проскочила под прозрачными накатами воспоминаний какая-то глубинная, добела раскаленная нить, просверкнула догадка в бессловесном, довербальном тумане, сгенерировалась сложная последовательность неоформленных смыслов с естественным рыжим окрасом, со скрежещущим стаккато двух едва не сшибшихся автомобилей; на секунду Сухожилов почувствовал вкрадчивую поступь сумасшедшего с бритвой в руке.