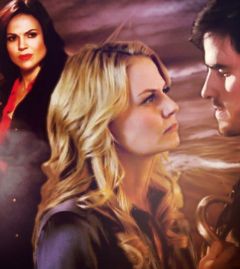Виктория Хислоп - Нить
– Здесь его нет! – крикнул тот и обнял Димитрия со слезами облегчения. – Здесь его нет!
– И в больнице тоже нет! – сказал Димитрий.
– Нет? Я как раз туда собирался.
– Уже незачем. И домой он не приходил?
– Нет, – ответил отец Василия. – Остается только одно.
Они понимали, что молодой человек, скорее всего, арестован.
– Пойду в тюрьму, – сказал отец Василия. – А вы лучше не ходите. Лишний риск.
Следующий день стал днем траура. Проводить погибших в последний путь пришли тысячи. Двенадцать усыпанных цветами тел пронесли по улицам в открытых гробах, и люди скорбели по убитым и по десяткам раненых, что лежали в больнице. Те, кто шел в траурной процессии, оплакивали не только погибших друзей, но и свою свободу. Лепестки цветов устилали место, где пули настигли демонстрантов.
Когда были объявлены новые забастовки, Метаксас воспользовался поводом, которого давно ждал. Он доложил королю, что в стране готовится коммунистический переворот. Четвертого августа генерал получил разрешение на введение военного положения. В Греции установилась диктатура.
Жара в тот день стояла невыносимая, и вечером температура не опустилась ниже тридцати пяти градусов. Ольга рано ушла спать.
Димитрий увидел, что его место за столом изменилось. Теперь он сидел напротив отца. Павлина еще не принесла первое блюдо, однако вино уже было налито.
Константинос Комнинос поднял бокал:
– Я хочу произнести тост.
Димитрий, против обыкновения, взглянул на отца.
Он упрямо не прикасался к своему бокалу, но все смотрел и смотрел в эти холодные, неподвижные глаза.
– За закон и порядок, – сказал Комнинос. – За диктатуру.
Он не улыбался, но весь его вид выражал торжество.
Что это – самообладание или трусость? – думал Димитрий. Что удерживает меня от того, чтобы запустить отцу графином прямо в лицо?
– Ну же! Выпей! – Тот, кажется, насмехался.
Молча, осторожно Димитрий поднялся и вышел из комнаты. В сердце у него пылала ненависть, но он не мог доставить отцу удовольствие полюбоваться на его реакцию.
Константинос Комнинос услышал, как внизу хлопнула дверь, и продолжил свой ужин в одиночестве. На улице Димитрия вырвало в канаву.
Глава 17
В точности как боялся Димитрий и как надеялся его отец, Метаксас принял новые меры к тому, чтобы подавить профсоюзное движение, и дал полиции новые полномочия. На коммунистов и левых активистов устраивали облавы и отправляли в лагеря. Их пытали, выбивая признания или заставляя называть имена других коммунистов.
Василия больше месяца не выпускали из тюрьмы. Свиданий с ним никому не разрешали, и Димитрий с друзьями много раз приходили к его отцу, чтобы обсудить, что делать. Тот каждый раз отвечал сурово:
– Я знаю, что вы не состоите в партии, но если будете к нему ходить, вас все равно могут взять на заметку как коммунистов. Держитесь в стороне – это лучшее, что вы можете сделать.
Один из профессоров права организовал кампанию за освобождение Василия, даже дал показания, что его студент шел к нему на лекцию и на демонстрации оказался случайно. Через шесть недель после ареста отец Василия получил письмо. Он торопливо распечатал его, ожидая известия об освобождении сына, и прочитал.
Уважаемый кириос Филипидис, считаем своим долгом сообщить Вам, что Ваш сын скончался 14 июня. Причина смерти: туберкулез. Если Вы желаете забрать его личные вещи, это можно сделать до 18 числа сего месяца.
Письмо пришло как раз восемнадцатого.
Отец Василия был совсем раздавлен горем и не нашел в себе сил идти в тюрьму, вместо него отправились Димитрий с другом Лефтерисом. Димитрий понимал, что подпись под казенной бумагой компрометирует его в глазах полиции, но гордился своей дружбой с мучеником за свободу.
На похоронах по щекам у него текли слезы печали, а в груди кипел гнев. Вне всяких сомнений, смерть Василия была на совести властей, и Димитрий поклялся себе, что никогда не встанет на сторону правительства, допустившего такое. Греция, безусловно, заслуживает лучшего.
Внешне жизнь в городе шла по-прежнему. Димитрий снова ходил на лекции в университет, предприятия вроде мастерской Морено продолжали работать, как раньше. Катерина иногда заходила выпить кофе вместе с Элиасом и Димитрием, только тон их разговоров изменился. Они горевали по Василию и все трое понимали, что под внешним благополучием в городе назревает тревожная обстановка.
В эти дни Димитрий всеми силами старался не встречаться с отцом. Даже редкие совместные ужины были ему в тягость. При отце он пребывал в постоянном страхе, и не потому, что боялся самого Константиноса Комниноса, он боялся того, что может сказать этому человеку, которого теперь презирал.
Мать, кажется, поняла все без слов. Она ни разу не задала Димитрию ни одного вопроса, когда он исчезал из дома за несколько секунд до возвращения отца или обедал в неурочное время.
Ольга понимала те чувства, которые Димитрий испытывал к отцу, и те, что Константинос питал к сыну. С того дня, как Димитрий появился на свет, любви тут не было и следа. Она помнила, как ее муж глядел на спящего ребенка, словно это не его собственная плоть и кровь, а какое-то диковинное животное. А потом случился пожар, и обстоятельства их жизни резко переменились. Тот миг, когда отец впервые берет сына на руки, смотрит ему в глаза и видит в них свое отражение, был упущен.
В эти первые двадцать лет жизни Димитрия Ольга часто заводила об этом разговор с Павлиной.
– Это я что-то не так сделала? – спрашивала она, заламывая тонкие руки.
У Павлины было свое мнение по поводу Комниноса, но инстинктивно она старалась щадить Ольгу.
– По-моему, так бывает иногда, – говорила она. – Многие мужчины не интересуются своими детьми. Считают, что это женское дело.
– Может быть, ты и права, Павлина…
– А вот потом, когда сын подрастет, отец поймет, что это уже мужчина, и пойдут у них свои разговоры. Вот увидите.
В каком-то смысле на эту теорию Павлину натолкнуло поведение самого Константиноса. Он, казалось, ждал одного: когда сын начнет вносить вклад в растущую бизнес-империю. Он все еще рассчитывал заставить Димитрия поступать по-своему, однако тот уже знал, что никогда не подчинится воле отца.
Он презирал самую роскошь этого дома и поднимался на крыльцо одним прыжком, как вор, потому что не хотел, чтобы его увидели, но с нетерпением ждал момента, когда войдет и мать покажется на верхней площадке лестницы. Димитрий никогда не задумывался над тем, почему она всегда там, всегда ждет его. Так было с тех самых пор, как они переехали на улицу Ники, и ему хотелось, чтобы так было всегда. Ее красота, ее молчаливое присутствие были неизменны в доме. Диктатура ли, республика – никакой политический режим не мог изменить одного: улыбки и объятия, которыми Ольга встречала сына.
На улице Ирини такой же теплый прием часто ждал и Катерину. Евгения, проработав целый день на фабрике, возвращалась домой к своему станку и бралась за челнок. Когда Катерина появлялась в дверях, Евгения всегда встречала ее. Тут же загорался язычок газа под туркой, и дом наполнялся ароматом кофе. Ужин готовили позже. Пока еще оставался целый час дневного света, им обеим не хотелось его упускать – при масляной лампе глаза устают. Каждая секунда, пока солнце еще не село, была дорога.
Иногда, пока пили кофе, Катерина становилась у Евгении за спиной, массировала ее затекшие плечи, и они рассказывали друг другу о том, что у них случилось за день.
Однажды Евгения получила письмо от Марии. Та спрашивала, не хочет ли мама переехать жить к ним, в Трикалу. София жила в каком-нибудь километре от них, в ближайшей деревне.
– Я уже один раз в своей жизни переезжала, – сказала Евгения. – Хватит с меня… Хотя я, конечно, очень скучаю по близнецам.
– Конечно скучаешь! – поддержала Катерина.
– Тяжело, когда людей вот так разбрасывает в разные стороны, правда?
– Да-да! Конечно, разлука – это тяжело.
Грустная ирония, скрывавшаяся в этих словах, дошла до них обеих одновременно. Евгения обернулась к Катерине и посмотрела ей в лицо:
– Прости. Я не подумала… – В молчании Евгения снова взялась за свой ковер, а Катерина раскрыла шкатулку для рукоделия и достала кофточку, на которой как раз вышивала кайму. – Нет, правда, я не хотела…
– Да ничего, Евгения, – сказала Катерина. – Иногда целые месяцы проходят, пока я вспомню, что совсем не думаю о маме. – Катерина отложила свое шитье и наклонилась вперед. Евгения увидела, что глаза у нее блестят. – Это странное чувство. В душе я понимаю, что у меня что-то отняли. Но уже не могу толком понять, что именно. Что-то? Кого-то? Даже не знаю, как сказать… – Она пыталась выразить словами то, что выразить было почти невозможно, и по лицу ее текли слезы. – А вот здесь… – Евгения протянула Катерине платок, и девушка вытерла глаза. – Здесь… Евгения, ты ведь понимаешь, о чем я?