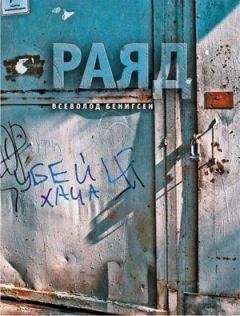ГенАцид - Бенигсен Всеволод Маркович
– Говорит, что вроде Мансура того.
– Что того? – нахмурился Бузунько.
– Ну, в общем, я сам не очень понял. Вроде как Мансура... убили?
«Убили» сержант произнес с вопросительной интонацией.
– Говорит, что, мол, народ поддал у Серикова и... А сейчас к библиотеке все пошли. И Антон туда же побежал. Ну так мне занести это в журнал? В смысле, звонок. Потом припаяем Поребрикову. Снова пьянство, телефонный... этот... хулиганизм.
Бузунько, который на протяжении всего короткого монолога сержанта молчал, вдруг посмотрел ему прямо в глаза и едва слышно, но очень четко произнес:
– Какое, мать твою, пьянство, сержант? Поребриков в завязке. – И через секунду заорал: – Быстро в машину!
30
Вывалившись из дома Мансура на улицу, толпа, повинуясь какому-то внутреннему голосу (а такой бывает даже у толпы), резко взяла курс на библиотеку. Сейчас уже не важно, почему именно на нее. Потому ли, что она находилась недалеко от дома Мансура и кто-то из толпы предложил заглянуть туда? Или, может, вспомнили слова Климова и действительно рассчитывали застать там Пахомова (вопрос «зачем?» был уже почти риторическим). Сопротивление Мансура как будто убедило большеущерцев в том, что они на правильном пути, – так милиционер, чувствуя испуг задерживаемого, принимает это за потенциальную вину и хвалит себя за хороший нюх. И большеущерцы, хотя уже и не помнили, зачем они ищут Пахомова, почувствовали в испуге и сопротивлении Мансура скрытую вину, заговор, преступление, которое они прямо-таки обязаны раскрыть. Им и в голову не могло придти, что Мансур схватил ружье не потому, что собирался защищать от народного гнева жизнь Пахомова, а потому, что хотел защитить свою собственную и жизнь своей дочери.
Антон бежал к библиотеке, но, как и толпа, плохо отдавал себе отчет в том, зачем. Ему почему-то казалось, что он еще может что-то исправить.
Толпу он заметил, как только вышел на финишную прямую, ведущую к знакомому зданию. Зрелище было красочным. Мерцая сигаретными огоньками и чиркающими зажигалками, хрустя по свежевыпавшему снегу и скандируя что-то отдаленно напоминающее «Вперед!», толпа эта была похожа скорее на армию, марширующую к бастиону противника.
И этим бастионом была библиотека. А что делают на войне с бастионами, Пахомов знал и безо всякого исторического образования.
Он на секунду остановился, перевел дыхание и снова бросился вперед. Он не знал, как сможет остановить толпу, не знал, что будет говорить, и он, конечно же, не догадывался, что и Сериков, и Мансур, и он, и даже Бульда – звенья одной цепи. Набирая скорость, чтобы опередить толпу прежде, чем она подойдет к библиотеке, Антон думал совсем о другом.
«Вот она! Государственная единая национальная идея во всей своей красе. ГЕНАЦИД, воплощенный в жизнь. Пусть другие народы верят в счастливую жизнь, пусть они в едином порыве куют свое светлое будущее. Нам же надо совсем другое. Нам нужна беда. Нам нужен враг. А где беда и враг, там и страх. А где страх, там и желание защититься, спастись, размолотить всё к едреной фене, но выжить. „Весь мир насилья мы разрушим до основанья". Кто там борется за идеалы? Ха! Да в гробу мы видали ваши идеалы! Мы не воюем „за", мы воюем „против". Дайте нам все разрушить сначала. Дайте нам беду! Потому что беда – это не какие-то сказки о светлом будущем. Беда – это светлое настоящее. Беда развязывает руки. Только она и дает ту свободу, которую никогда не даст ни какой-то там абстрактный идеал, ни тихое счастье, ни демократические принципы. Хаос – вот, что способно сплотить нас по-настоящему. И его составляющие. Беда, страх и желание выжить.
Не в этой ли святой троице и заключается подлинное единство, то, что действительно объединяет и вдохновляет русского человека? Нам нужен вызов. А если его нет, мы его выдумаем – раз плюнуть! Или нет, не так. Нужна беда – мы ее создадим. Нужен враг – найдем. Но если мы сами создаем беду, так и враг, выходит, совершенно не нужен. Мы сами враги себе. И сами себя боимся. Вот тебе и страх. То есть, чтобы начать действовать, надо просто найти врага, а нет его, так найти его... в своем лице. Ха-ха. Забавно. Нет, слишком парадоксально. А почему бы нет? Мы сами – беда. Мы сами – враг. Мы сами себя боимся. Перпетуум мобиле, так сказать. Нет, стоп! А может, так все и было задумано в этом чертовом эксперименте? Не книжками объединять (вот еще глупости! слишком просто и бесполезно!), а наоборот, всучить эти книжки так, чтоб они зуд по всему телу вызвали, чтоб пошло такое расстройство желудка от этих культурных ценностей, что и не надо никакой беды и никакого врага – все вам на блюдечке поднесем. И в зубы ткнем. Тут вы блюдце хвать и вдребезги! И вот тогда начнется настоящее понимание и объединение. Такое, что все вздрогнут. „Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем". И будет такой ГЕНАЦИД, что. Интересно, а все-таки что это передо мной? Порядок или хаос? Видимо, естественное для русского народа состояние – хаотичный порядок. Или порядочный хаос, ха-ха! Черт возьми, прямо хоть диплом дописывай! Я за хаос. Но в этом хаосе есть какая-то упорядоченность, которая ему совершенно не противоречит. Разрушающая и целенаправленная сила, которая заставляет этот хаос крутиться, как будто с какой-то целью. Может, это и есть богоизбранность? Везде либо хаос, либо порядок, а у нас и то, и то в одном флаконе? Путано, путано, Антон. Эх, кабы сюда бумагу с ручкой!»
Перепрыгивая с мысли на мысль, Пахомов постепенно догонял толпу большеущерцев, подходящих к библиотеке. Он решил сделать небольшой крюк, чтобы не оказаться в задних рядах марширующих – там не услышат, а затолкают, затопчут. Надо встретить их лицом к лицу. Только так и говорить с ними. Чтоб только до библиотеки не добрались.
И Антон взял левее. Петляя по сугробам между деревьями, он понесся, оставляя справа от себя толпу, которая была настолько увлечена собственным маршем и приближающейся кульминацией, что даже не заметила маленькую фигурку, призрачной тенью мелькающую на обочине.
Следя краем глаза за шествием, Антон чувствовал, что возбужден. Но возбуждение это имело какой-то странный, почти восторженный оттенок. Давным-давно писал он свой диплом, но все это было теорией, пустыми словесами, сухой казуистикой. История была абстрактной величиной, которая не имела ни формы, ни веса. Теперь она обретала объем, плоть. Она оживала. Сходила со страниц, выпускалась из бутылки. А он становился ее свидетелем, а возможно, и участником. И это возбуждение было уже не возбуждением теоретика, выведшего новый физический закон, а скорее радостью палеонтолога, который провел всю жизнь среди книг с иллюстрациями и вдруг увидел живого динозавра. Вот оно – животное давно минувших дней. Шагает по земле, как ни в чем не бывало. Думали, умерло? Дудки! Оно просто спало все это время. А теперь проснулось. К нему уже не подойти с лупой и линейкой. У него не взять анализ крови и не пересчитать количество зубов в пасти, если, конечно, ты не самоубийца. И как бы ни был велик исследовательский азарт, от некоторых объектов изучения лучше держаться подальше. Но Антон спешил делать историю. Он спешил к своему объекту.
Эх, Антон. Сколько их было, этих шестеренок, на твоем пути! И каждая вертела тобой, как хотела. А ты все думал: решу так, решу эдак. Если б не выданный Серикову сборник Чехова, не прощальный разговор с Сергеем, не отсутствие на импровизированных поминках, не внезапный поход после Климова в отделение, не твое желание говорить с толпой на манер Цезаря. Как все-таки иногда упорядоченно складывается мозаика этого хаотичного мира. История – это как отколовшийся от континента кусок суши в океане: с одной стороны, плывет себе, пренебрегая всеми геофизическими законами, а с другой – не тонет, держится и даже как будто бы какую-то цель имеет. И мы на этом плавучем острове живем и не знаем, то ли мы сами виноваты в том, что нас несет неведомо куда, то ли есть какие-то законы, которых мы не знаем. То ли можем мы что-то изменить, то ли нет.