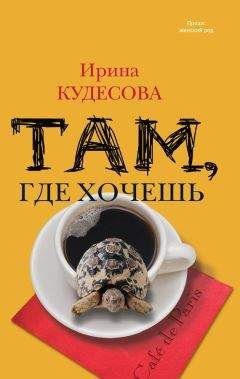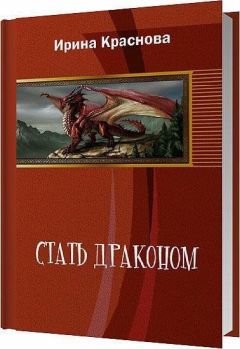Однажды осмелиться… - Кудесова Ирина Александровна
Вот так, прилюдно. Света, с красным от сморкания носом, от экрана оторвалась, наблюдает.
— Я хотела…
— Да мало ли, что ты хотела, мне на фиг не нужны представители, мне китаец нужен.
— Японец, — это Серега.
— Ну японец. А не какие-то там…
— Да он никому не давал интервью! Он не говорит по-английски! Он старый и больной! И статью он эту никогда не прочтет, кому какая разница! У них половина ответов была заготовлена, он еще дома у себя на вопросник ответил! И ничего, никто не жалуется! Твой любимый Шушлебин вообще наклюкался и нахамил старикану, вывели под белы руки! Ну давай, я сейчас все порву и в помойку! Выкручивайтесь сами. Мне все равно.
Оленька достала из сумки листы — с подробным рассказом о суши, о становлении мастера Коимори, с его ответами на вопросник, — и исписанные ею самой.
— Не надо так не надо. Только фотографии оставлю — обещала вернуть.
Разорвала надвое листы и бросила в мусорную корзину.
— Все.
Никто не шевелился.
Оленька села за стол и уставилась в компьютер. Она повторяла себе, что сама виновата, инициатива наказуема, Шлыков такой же, как и все. Слезы поднимались, накатывали, она их смаргивала, но было их слишком много.
— Оля, зайди ко мне… с картинками.
Ушел в кабинет.
Оленька поднялась не сразу. Потерла глаза, напрочь забыв, что с размазанной тушью будет больше походить на панду, чем на обольстительницу. Посидела, глядя в экран. Просто глядя в экран, как в пустоту. Вера снова принялась стучать — ведь есть же динозавры, которые все еще приносят от руки нацарапанное. Остальные занялись своим делом. Никто не подошел.
Оленька взяла фотографии и поплелась к Шлыкову.
75
— И бумаги, которые ты так театрально порвала, захвати.
Вернулась к своему столу, достала из мусорки что было.
Молча перебирал фотографии. Посмотрел на горку обрывков:
— Вот тебе скотч, склей их, пожалуйста.
Села здесь же, потянула за хвостик моток липкой ленты, он взвизгнул, заскрипел, раскручиваясь.
— Ножницы есть?
Посмотрел исподлобья.
— Есть. — Протянул. — Ты мне такой даже нравишься.
— А ты мне — нет.
Она понимала, что — хамит. Нико прежде всего начальник.
И она понимала, что ему это не придется по нраву.
Несколько секунд он боролся между желанием одернуть ее и осознанием того, что она права. Не нашел ничего лучшего как выйти, оставить ее одну.
76
Может, это и было похоже на объявление войны. Хотя смешно: воробей против пушки. Прозрачным на просвет клювиком долбит гусеницу танка:
— Я сегодня сама домой поеду.
Это уже когда он склеенные бумажки полистал.
— Если поедешь, я тебя уволю.
77
После истории со Светой — когда она потащилась проверять, не прячется ли Оленька в машине (влюблена она в Шлыкова, что ли?), — выходили вместе. Серега с Егором то ли не придавали этому значения, то ли до лампочки им было.
Сейчас тоже вышли вместе, ни слова не говоря. Нико снова парковался недалеко от подвала — что теперь скрывать. Сели в машину. Все уже разъехались, они последними были.
Оленька пристегивала ремень, когда Шлыков склонился к ней, прижал ладонью плечо к спинке сиденья.
Она увернулась от его губ.
— Не надо.
Отпустил, завел машину. Сорвал с места.
Ехали в гробовой тишине.
Оленька сперва как-то неприятно волновалась, потом задумалась о чем-то. Да, о том, как нехорошо с Аленой вышло. «Я в ближайшие три недели не приеду. Правда, мне кое-какие бумажки нужны…» — «Хочешь, пошлю их тебе?» — «Нет. Спасибо. Не знаешь, Володя не забывает поливать цветы?» — «Он ничего никогда не забывает». (Вот оно что, цветы!) И тут самое время было спросить: Алена, можно мы с Нико… как-нибудь к тебе в гости… пока тебя нет? Но следом за этой мыслью — другая: а вдруг не согласится? Алена, она сиропиться не станет — нет, и весь сказ. Лучше молчать. Все равно в марте не появится, а ключики с мышеловкой, они все там же лежат, Оленька для отвода глаз опять завалила их засохшими кремами и прочим мусором. «Ну как у тебя с начальником-то?» — вдруг спросила Алена. «Все сложно…» — Оленька отчаянно колебалась: спросить про квартиру — нет? И тут Алена выдала странную фразу в своем духе: «Сложно? Да нет, любовь проста, как мыльце». Наверно, какая-то поэтическая ересь.
— И что ты во мне нашла?
Голос Шлыкова пробился извне, издалека. Оленька повернула голову, хотела ответить, но тут как раз последовал крутой вираж, тряхнуло.
— Ты вот берешь и одной левой всех из дерьма вытаскиваешь, — я про китайца.
— Он японец.
— Ну один бес. Ты находчивая, ты интересная женщина. Ты стихи читаешь… про лапы-швабры. А что я?
Оленька молчала.
— Я просто мужик, который пытается что-то делать в жизни. Но таких полно.
— Ты проскочил поворот.
— Черт. Ничего, там еще один есть.
Помолчали.
— Знаешь, как я боялась звонить японцу?
— Боялась? Почему?
— Боялась, что разговаривать даже не станут, а если станут, то откажут; или поймут, что я не настоящий журналист, и посмеются. Боялась, что не буду знать, как с японцем говорить, о чем говорить, что мой английский недостаточен, что я не пойму его акцента, что…
— Трусиха.
— Да, пожалуй… Вот ты спрашиваешь, что я в тебе нашла. Наверно, я знаю, как ответить. Нашла человека, ради которого я готова этот страх перебарывать. Во имя которого готова идти против течения. Как карп. Ты знаешь, что в Японии карп весьма уважаем?
— Нет. А что так?
— За стойкость характера. Это единственная рыба, что может идти против течения и даже по водопаду взбираться. Мне сегодня рассказали. У японца-то фамилия Коимори. Я спросила, что она означает, оказалось, это производная от «кои», карпа.
— Вот чего он суши-то занялся. А «мори», случайно, не «рис» означает?
— Нет, «мори» — лес. Что общего с карпом, непонятно.
— Лесной карп. Обычное явление.
— Мутант.
Нико улыбнулся:
— А Коимори — это Карпов такой японский.
— Не, «Карпов» не от карпа происходит, а от имени Карп. А имя — от греческого «карпос», плод.
— Ты и это знаешь…
— Да нет, у нас просто препод в институте был по фамилии Карпенко. Он и рассказал.
— Слушай, и у нас был Карпенко. Хулиганистый такой.
— А наш все время бегал вдоль доски… Маленький, толстенький, пальчики-сосиски, снует туда-сюда, быстро-быстро, сейчас взлетит. Мы его Карпосоном прозвали… — Оленька отвернулась, посмотрела в окно. Бросила, не поворачивая головы: — Ты понимаешь, Нико, сколько делаешь для меня?
78
Будто перешагнули некую грань. Теперь каждый знал, чем дорог другому. Их переполняла благодарность. Сейчас уже все было бы уместно — и заднее сиденье «Субару», и разговоры — о том, что раньше не приходило в голову спрашивать.
— Ты о чем мечтала в детстве?
— По дороге на дачу обнаружить лесок, где на деревьях растет мороженое.
— И карп с двустволкой прохаживается, охраняет.
— Нет, правда, у такого дерева ствол был бы как эскимо. Подошел, лизнул, дальше пошел… Еще я мечтала, чтобы никогда не случалось дождя.
— Дождя?
— Да. Мне казалось, что тучи когда-нибудь дойдут до земли и мы все задохнемся.
— Страсти какие.
— Да. А ты?
— А я мечтал школу взорвать. Сидел, изобретал порох.
— Изобрел?
— Нет, но пожар дома устроил.
— Да… Лучше бы ты велосипед изобретал…
— Олька, мне кажется, я его как раз с тобой и начал изобретать. Заново проходить всем известные вещи. Мне самому вроде бы известные.
Замолчал. На дорогу смотрит.
— И… что теперь?
Резко съехал на обочину. Наклонился к Оленьке.
Как удержать его? Сейчас он снова возьмется за руль, а через пять минут она войдет в свой подъезд. И назавтра — весь день — он будет чужим, восхитительно чужим, хотя уж все знают, играть не перед кем. Но он и не играет. Это мужчина, он не может жить одной любовью, ему будет душно. Любовью… Она ли это? Но ведь не спросишь. Бросишь: «И… что теперь?» — ждешь, может, скажет хоть что-то — конкретное, зримое. Изобретатель… Ну разве это признание? А как хочется признаний. Но трудно представить себе Нико в амплуа воздыхателя. У него не чувства — а изобретение велосипеда. Сколько этих «велосипедов» у него уже было… И сколько покорежено, отправлено на свалку, без сожаления, безжалостно. Взрослый мужчина, успешный, море шарма. Будь что будет. Пускай потом все разлетится вдребезги. Но минутки радости, кто их отнимет?