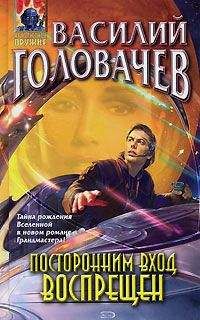Евгений Водолазкин - Похищение Европы
Этот фильм продемонстрировал нам не только возможность прохождения через стену: он по-настоящему открыл для нас телевизор. Приспособление, прежде использовавшееся нами исключительно как звуковой фон, заняло в нашей жизни важное место. С телевизором были связаны два наших основных увлечения: новости и детективные фильмы. Это сочетание вовсе не является таким неожиданным, каким могло бы показаться на первый взгляд. И то, и другое имеют много общего. Для зрителя они притягательны прежде всего его в них неучастием (невидимым участием?). Они дороги ему мягкостью его кресла и завораживающим вечерним уютом. При созерцании автокатастроф и взрывов, землетрясений и революций ничто так не впечатляет его, как собственная неуязвимость. Зритель счастлив оттого, что контуры не его тела обозначены мелом на асфальте, что не его ищут в снежной лавине, метр за метром прощупывая снег длинными металлическими шестами. Он находится в стеклянном шаре, и ему нельзя причинить зла. Так это чувствую я.
Что касается фильмов, то ни я, ни Настя никогда не смотрели триллеров с их плохо придуманной и совершенно неинтересной действительностью, полной драк, стрельбы и пиротехнических эффектов. Мы не любили ни широкоскулых молодцов, ни их полногрудых подруг, ни всех совершавшихся ими подвигов, столь же многочисленных, сколь и убогих. Мы предпочитали респектабельных пожилых господ, поднимавшихся, опираясь на тросточку, по скрипучим лестницам Ист-Энда. Нам нравилось, как они постукивали пальцами по серебряной табакерке, как, сидя спиной к двери, отвечали «Входите!» или, сгорбившись над стойкой бара, маленькими глотками пили коньяк.
Больше всего мы любили смотреть старые детективы. Помимо крепкого сюжета и хорошей игры актеров, в них было особое очарование. Очарование прошедшего — во всех его мельчайших деталях. Ничто так не касается повседневности, как детектив. Нигде, кроме как в детективе, улиц и дворов не увидишь в таких подробностях, нигде больше крупный план не предоставляется такому количеству дверных ручек и пожелтевших обоев, садовых калиток и домашней посуды. Фильмы о прошлом меня никогда не трогали. Не зная меры, они демонстрируют неправдоподобно роскошные аппартаменты либо такую же неправдоподобную нищету. В них нет главного: внимания к повседневности с ее нормальным бытом — а ведь именно оно годы спустя и заставляет сердца сжиматься.
Воскресными вечерами мы смотрели старый немецкий сериал «Комиссар» — черно-белый фильм начала семидесятых, снятый без затей и излишнего умствования, как то и положено детективам. Стоит ли говорить, что главным действующим лицом серии был комиссар. Это был пожилой и умудренный опытом комиссар. Его спокойная уверенность оказывала на нас с Настей умиротворяющее воздействие. Она убеждала нас, что, несмотря на всю таинственность преступления, ход событий комиссару более или менее очевиден с самого начала. Следственные действия проводились им в большей степени для нас. Для продолжения этого черно-белого сериала.
Однажды в беседе с N я сказал ему о сходстве теленовостей и кино. Он согласился и заметил, что новости строятся по типу телесериала. За незначительными исключениями зрителю не нужно знакомиться с новыми персонажами, ведь он, зритель, этого ох как не любит. Такова его, зрителя, психология. Он по-детски радуется сериалу, встречая там старых знакомых, осматривая привычный интерьер, выслушивая знакомые анекдоты. Примерно так же на зрителя действуют и выпуски новостей, где об одних и тех же лицах рассказывают одни и те же комментаторы. Может быть, поэтому, несмотря на смену одних событий другими, характер комментариев остается одним и тем же. Собственно говоря, добавил бывший профессор, ни сериалы, ни новости в этом не оригинальны. Они лишь следуют старым добрым правилам итальянской комедии. Пьеро всегда должен оставаться грустным, Арлекин — веселым, Милошевич — злодеем, Клинтон — спасителем. Остальных героев я уже успел позабыть.
Эту особенность прессы неоднократно отмечала и Настя. Поводы для такого рода обсуждений подавал чаще всего Кранц. Почувствовав в Насте идеологического противника, он решил не ограничиваться югославскими событиями. В приносимых им газетах (преимущественно «Зюддойче цайтунг») красным карандашом он отмечал и репортажи о России. Эти репортажи приводили Настю в бешенство. Особенно выводил ее из себя корреспондент, имя которого, если не ошибаюсь, было как-то связано с философией. Кажется, Мах[10]. Настя говорила, что если бы сама она не знала русской жизни, то на основании его публикаций первой бы объявила, что такая страна не имеет права на существование. Кранц пожимал плечами, не исключая и такого вывода.
— Это все субъективные ощущения того господина, который эти статьи пишет. Его, а точнее — тех, кто их ему заказал, — горячилась Настя. — Это не имеет никакого отношения к действительности.
Кранц не возражал. С улыбкой Моны Лизы он пил свое пиво, время от времени ставя бутылку у кресла. Однажды Настя взяла бутылку и поднесла ее к глазам изумленного Кранца.
— Как это говорят у вас в Германии? Бутылка может быть наполовину полной или — ну, знаете, да? — подбодрила его Настя, дирижируя бутылкой.
— …наполовину пустой, — безропотно подтвердил Кранц.
Несколько хлопьев пены пролетело у его лица и легло на пол.
— Вот именно. Наша бутылка всегда наполовину пуста. Но ведь не может быть в какой-то стране все только плохо. У нас, русских, много грехов. Много. — Она поставила бутылку Кранца на место. — Но не все.
Если закрыть глаза на особенности репортажей из России, новости были одним из любимых наших зрелищ. Мы смотрели их по нескольку раз в день, переключая телевизор с канала на канал. Мы выучили имена всех ведущих, всех комментаторов и корреспондентов. Эти люди были нам знакомы настолько хорошо, что мы могли уже без труда отмечать перемены в их гардеробе или прическе. Это были ироничные политологи, сидевшие в своих уютных студиях, и бывалые военные корреспонденты, одетые в хаки, дарившие камере свой утомленный прищур, мучительно сглатывавшие между словами в тех безводных местах, откуда им доводилось вести репортаж. Это были безумного вида дамы, чьи пряди развевались по ветру на фоне беспризорных Бангкока, и изысканные господа у Каннской лестницы — в смокингах, улыбающиеся, умеренно порочные. Время от времени возникали какие-то старички, ведшие с зонтиками в руках умиротворяющие репортажи из садоводств.
Позднее, когда мне случилось соприкоснуться с миром прессы в ином качестве, я мог только улыбаться, вспоминая свои прежние телевизионные впечатления. Так, к моему разочарованию, выяснилось, что корреспонденты, оказывается, не все время проводят у горящих танков и рухнувших домов. Эта мысль, сама по себе вполне естественная и даже законная, прежде отвергалась одним только видом пыльных, в капельках пота, лиц. Мужественный стендап людей с микрофоном не предполагал для них никакого другого фона, кроме взрывов, горения и пепелищ. Вот почему чудовищной мне показалась бы тогда даже догадка, что у этой занесенной пылью публики в гостинице есть маленькие невоенные радости вроде бассейна, бара или недорогих местных девочек, с которыми можно расслабиться после взволнованного репортажа в их защиту.