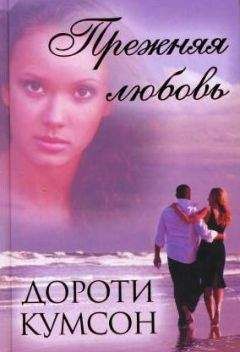Юрий Буйда - Город Палачей
- Полуживую, - тихо поправила Скарлатина.
- Полуживую, - не стал возражать Ксаверий. Он пустыми глазами посмотрел на жену: - Вот и все, что я знаю про свиней. Уходите. Пожалуйста.
Когда мужчины ушли, Скарлатина, стараясь двигаться как можно тише, постелила постель и уложила мужа. Он дрожал. Она прижалась к нему всем телом, пытаясь его согреть.
- Я читала твое письмо Гаване, - наконец сказала она. - Которое ты так и не отправил ей. Мы больше не будем так жить. Не надо больше мрака.
- Если бы этот мрак слушался моих приказов, его давно не было бы и в помине.
- Мужчина и женщина одинаково изживают мрак, если любят друг друга, сказала Скарлатина, впервые за десять лет употребив слово "любовь".
- Я знаю, - сказал он. - Черт возьми, ведь когда мы тогда остались наедине в классе, на тебе ведь даже трусиков не было. Мы знали, что...
Она прикрыла его рот горячей ладонью.
- Я этого хочу, но не знаю, как сказать... - От нее вдруг запахло потом. - Baisemoi, пожалуйста, baisemoi, милый...
По возвращении в Африку Август и Иван Бох сели за крайний столик в тени.
- Я попросил Шута Ньютона обследовать стену, - сказал Август. - Не может же она тянуться на сотни километров. И толщина - не Китайская стена. Может, нам ее удастся прорвать как-нибудь? Тут динамита хватит.
- Ты же наверняка сверялся с картами и знаешь, сколько отсюда пути до Хайдарабада, - сказал Бох. - Мы ведь даже не знаем, есть ли там, за стеной, рельсы. Да даже если б и были...
- Я поеду, - сказал Август. - Я опрошу всех и выясню, кто хотел бы составить мне компанию. Я думаю, таких наберется немало. И мы доберемся до Хайдарабада. Это не будет чудом. Просто мы доберемся до него, потому что доберемся. Потому что иначе быть просто не может. Я знаю, ты не поедешь...
- У меня еще тут дела остались. - Иван встал. - Я еще не все узлы развязал, не все понял, и вообще...
Август кивнул.
- Я тоже верю, что она еще жива.
- Знаю, - сказал Бох. - До свидания. Ищи пассажиров. И еще... это, конечно, не мое дело, но было бы просто здорово, если бы у вас с Малиной родился ребенок. Извини.
Август сглотнул.
- Мальчик или девочка? - наконец выговорил он. - И как же тогда Хайдарабад?
Бох улыбнулся.
- Это и будет ваш Хайдарабад. Слюнявый, писклявый, писаный-каканый чудо, а не Хайдарабад. На всю жизнь, а не какая-нибудь экскурсия. И даже чуть-чуть больше, чем мечта.
- Это в Городе-то Палачей?
- А нету здесь палачей, - сказал Бох. - Давным-давно нету. И города такого на карте, сам ведь знаешь, тоже нету. Остальное - это правда - есть. Если верить Шуту Ньютону, Город Палачей с окрестностями занимает территорию радиусом двадцать два километра четыреста метров, таким образом, площадь его не превышает четырех тысяч двухсот восьмидесяти семи километров восьмидесяти четырех квадратных метров. Но ведь никому не известно, сколько на самом деле он занимает во временах в этой вечности. Так что - желаю и прочее.
И он приподнял шляпу, прощаясь с Августом.
Через несколько минут Август вошел в спальню к Малине и передал ей разговор с Иваном Бохом.
Женщина села на кровати и с улыбкой попросила у него ключ. Щелкнул замок.
- Зеленый мой ангел Август, - сказала она шепотом. - И наплевать, сколько жизней мы прожили и сколько нам еще предстоит прожить.
- Да, - согласился Август, - возлюбленный ангел Малина, любовь моя. Ничего, если я сниму шапочку?
Устав пересчитывать чайные ложечки, но так и не утрудившись до сна, Бздо спустился в ресторан с одной-единственной целью - выпить. Но ни пива, ни вина, ни паровозной - ну ни капли - обнаружить ему не удалось. На зов его никто не откликался.
Бздо прислушался: из-за стены, за которой располагалась спальня Малины, доносились какие-то звуки.
- В доме ни капли спиртного, а они мебель ломают!
Известно, что за сутки корова испускает около 280 литров газов. Бздо же от переполнявшего его возмущения с одного выстрела испустил в четыре раза больше, при этом разбив все лампочки в люстре. Услыхав же, что итальянский бронзовый конь вызывающе закашлялся, Бздо прорычал:
- Рожденный мертвым чихать не может!
И ушел, намеренно громко топоча босыми ороговевшими пятками, но прежде похитив на всякий случай пяток оставленных без присмотра чайных ложечек. Лег поверх одеяла и долго смотрел в потолок, размышляя о слонах, на которых держится земля и которые наверняка были родом из Хайдарабада, где и сейчас, наверное, живут их слонята, скучающие без родителей, не спящие по ночам и пересчитывающие по ночам краденые чайные ложечки, которых у Бздо набралось не меньше тыщи. Или больше. И он принялся вновь пересчитывать чайные ложечки, и уснул на семьсот тридцать девятой, похожей скорее на рыбку, чем на слоненка...
Каролина Эркель, прекрасный Антиной и Федор Михайлович Достоевский
Каролина Эркель впервые прочитала роман писателя Федора Достоевского "Бесы", когда ей не исполнилось и шестнадцати, но почувствовала себя если и не униженной или оскорбленной прочитанным, то глубоко задетой и растерянной до отчаяния. Когда библиотекарь Иванов-Не-Тот спросил о книге, она, вдруг вся похолодев, ответила:
- Почитать есть о чем, читать же - нечего.
Роман "Бесы" болезненно потряс ее.
Каролина была начитанной девушкой, более того, типичной интеллигентной русской девушкой, любившей литературу. Она обожала Пушкина и Тютчева, Стендаля и Гаршина, переводила - для себя, конечно - Бодлера и Шекспира и однажды проплакала в подушку всю ночь, обнаружив у Флобера фразу, недостойную великого мастера слова: "Quand elle eut ainci un peu battu le briquet sur son coer sans en faire jaillir une etincelle"1. Когда после революции гимназию закрыли, Каролина продолжала заниматься самообразованием под руководством матушки Ирины Георгиевны и бывшей директрисы гимназии Милли Левандровской, с которой обсуждала прочитанное, делилась сокровенным и сблизилась настолько, что ничуть не удивилась, а даже обрадовалась, когда отношения их перешли в сафические, в которых роль многоопытной Сафо играла жестокая красавица Милли, а неопытную, но старательную и страстную Эранну голубоглазая Каролина.
Потрясший ее роман "Бесы" Каролина не обсуждала ни с матушкой, ни с Милли. После нескольких дней тягостных раздумий она втайне от родителей отправилась в гости к дедушке Егору Эркелю, жившему на отшибе в своем доме и считавшемуся шутом гороховым и чуть ли не позором семьи. Отслужив - как, впрочем, и все Эркели по мужской линии - мелким чиновником по речному ведомству, Егор Эркель женился на жеманной проститутке из Африки, разъезжал по городку на германском мотоцикле и вообще фраппировал публику выходками вроде полета на воздушном шаре или установки на городской площади фаянсовой статуи анархиста Бакунина.
Увидев внучатую племянницу, он тотчас догадался о цели ее визита, хотя Каролина не успела еще и к началу-то приступить, потому что уже жалела о походе к Егору Ивановичу. Тот, однако, без церемоний пригласил ее в гостиную, угостил превосходным чаем, познакомил с красавицей Тату, славившейся в Африке умением играть сразу на трех небольших гобоях милую пьеску, причем лишь один инструмент находился у нее во рту, и - выпив подряд несколько рюмок рябиновой - сам приступил к делу.
- Я знавал человека, который пустил себе пулю в лоб только потому, что фамилия его была Лужин, - сказал он. - Вообрази! Не Свидригайлов, не Версилов, даже не Смердяков, а всего-то - Лужин! Каково же, спросишь ты, а ради этого ты сюда и пришла, - жилось мне, человеку, которого Достоевский не удосужил даже имени, но лишь фамилией назвал, да еще вывел какой-то мелочью пузатой, страшненьким ничтожеством и так далее. Да я наизусть, милая, помню! - Вскочив, он прошелся по гостиной и остановился у окна. Эркель был такой "дурачок", у которого только главного толку не было в голове, царя в голове; но маленького, подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости... - Он прокашлялся и с кривой улыбкой продолжал цитировать роман: - Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, малорассудочной, вечно жаждущей подчинения чужой воле натуры - о, конечно, не иначе как ради "общего" или "великого" дела. - Он выпил еще одну рюмку рябиновой. - Это ведь он, то есть я, обманом заманил несчастного полубольного Шатова на место убийства и помогал этим негодяям убивать Шатова и топить его труп в пруду. А потом как с ним простился Верховенский, эта мерзкая мерзятина? Да никак. Отделался и бежал, бросив Эркеля на произвол судьбы и полицейских властей. Писатель еще упоминает о несчастной нищенке - матушке Эркеля, которой он отсылал часть своего жалованья, и о том, как она приехала хлопотать за сына... И ее имени классик нашей литературы тоже не желает упоминать! И так оно и было. Потому что вы можете хоть триста раз считать меня дураком, но тем рабом и глупцом Эркелем был ваш покорный слуга. - Он поклонился Каролине. - Казалось бы, ну и что? - Он сел в плюшевое кресло и закурил дешевую сигарку. - Мало ли что могло взбрести в голову знаменитому Достоевскому, предупредившему мир о приходе нигилизма, безмозглой стадной революционности - и об одном из энтузиастов этого страшного стада - прапорщике Эркеле, который так и сгинул бы, едва книга прочитана и закрыта, но не сгинул, потому что гений нашей словесности создал живого человека. - Каролина и не заметила, как взвинченно-шутовской тон Эркеля постепенно сменился чуть ли не меланхолическим. - Не стану передавать всех деталей и извивов моего жизненного сюжета, но кое-что расскажу... - Он вдруг придвинул к Каролине рюмку, и она машинально выпила рябиновой. - Революционная организация все же была, хоть и соломенная, немножко дурацкая, но была, и она помогла мне бежать из-под стражи. Но бежал я не за границу, а в столицы. В пекло! Очень уж хотелось мне объясниться с Федором Михайловичем Достоевским, право слово, не вру. Воображал себе сцену за сценой: приветствие, изумление, не желаете ли чаю и папироску и тэ пэ... Да не успел, то есть успел, но к похоронам. Да, милая, я шел в той огромной процессии, которая провожала Достоевского на кладбище, и венок от своего имени - "От прапорщика Эркеля" - взгромоздил на кучу венков, среди которых никто его не заметил, а если б заметили, - воображаю эффект! - Он закурил новую сигарку, такую же гадкую, и выпил рюмочку. - А потом... потом такая жизнь сложилась - Дюма да Жюль Верн, и только! И в Африке послужил у англичан, и во Франции с анархистами сошелся, и довольно близко. Снимал комнату в пансионе, куривал манильские сигары, жил совершенно один - с портретом Достоевского на стене, вечерами брился у открытого окна, мечтая перерезать бритвой намыленное горло, да так вдруг и замирал с бритвой в руке, прислушиваясь к музыке, гремевшей в соседнем кафешантане, к стуку каблучков какой-нибудь робкой мидинетки, спешившей к любовнику или от него, и думал, и уплывал туманной мыслью куда-то... Так и не зарезался, да, собственно, с чего бы и резаться было? - Он шумно вздохнул. - А когда в России началось, все бросил и рванул сюда, да успел только к разгрому белых армий. Под Ростовом нас большевики окружили, разгромили, и мне командир наш Петр Игнатьевич доверил вывезти в Крым, к Врангелю, кое-какие документы, а главное - полковое знамя, заслуженное, славное еще со времен Петра, Екатерины и Крыма. Чтобы не выдать себя, я, конечно, переоделся, а дамочки в одном, извините, публичном доме, помогли мне обернуться знаменем по голому телу. Одна из них взяла в саквояжик полковые бумаги, благо их мало было, и мы где пешком, где на паровозах двинулись на юг, в Крым. Девушка была красивая, умная... глаза у нее были серые... - Он быстро промокнул левый глаз носовым платком. - Стихов знала пропасть. По бумагам мы с нею были муж и жена - фальшивые, конечно, но все же... рояль дрожал и тэ пэ... На одной из станций нас с нею сняли с поезда большевики, а то ли анархисты, и учинили допрос. Черт их разберет, почему сразу в расход не пустили. Или почуяли? Словом, взялись за нас всерьез. - И голос Эркеля стал серьезен, едва ли не сух. - Говори, кто таков, и так далее. А чтобы устрашить меня, а заодно и поглумиться, на моих глазах ее стали насиловать... Она знала, что знамя, которое на мне, важнее документов, я сам ей про это сто раз говорил, и выдала им документы. Тут-то они на нее и набросились, она только успела крикнуть: "Беги, Егорушка!", и я побежал, а они там ее... ну, не знаю... В живых, конечно, не должны были оставить. А я - бежал. Как же! Знамя! Святое! Добрался кое-как до Крыма, меня к самому главнокомандующему барону Врангелю. Он как увидел знамя с пятнами крови и прочей благородностью - слезами пошел. И спрашивает, чего б я хотел, что бы он, главнокомандующий, мог сделать для такого героя и так далее. А за все это время много чего я передумал, и вспомнился этот ее крик почти нечеловеческий, и Егорушка, особенно - Егорушка, тут оно все из меня вдруг да и поперло, и тут я вызверился и говорю: "А ради такой святыни поцелуйте меня в задницу, извольте соблаговолить!" - Он помолчал. - Не соблаговолили изволить. Даже промолчали. Ни виселицы, ни расстрела, ни шомполов - все же я офицер, и герой, и вообще дворянин. Выгнали вон, а я и отправился в ближайший кабак, и пил, много пил, а все думал: стоило ли все это того? Достоевский, Шатов, бритва, каблучки парижской мидинетки, зверская смерть той сероглазой умницы, которую - ради спасения святыни - на моих глазах насиловали, да как! - Он наклонился к Каролине. - Винтовочным дулом!