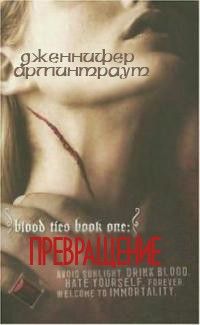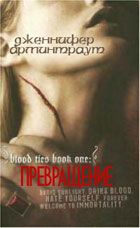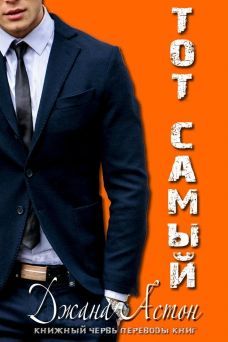Нил Шустерман - Громила
— А это за что? — осведомился Теннисон.
— Не знаю… Не знаю…
Единственное, что я тогда осознавала — это что мне хочется расплакаться, а я не могу, и потому мне ещё больше хотелось плакать.
60) Знание
Если сердце говорит тебе одно, а ум другое — чему ты поверишь? Оба одинаково склонны ко лжи. Да что там — они обманывают нас постоянно. Обычно они уравновешивают друг друга, давая нам возможность поверить свои выводы реальностью. Но что, если в некоторых редких случаях эти два мошенника устраивают совместный заговор?
«Всё ведь так хорошо, Бронте».
Теннисон прав! Моё сердце утверждало, что жизнь прекрасна, лучше, чем когда-либо; мозг советовал не копать слишком глубоко, иначе можно всё потерять. И сердце, и мозг в один голос твердили: отведай настоящего домашнего обеда, который впервые за многие месяцы приготовила мама, потом скользни под тёплое, мягкое одеяло и сладко спи до утра.
Но вам не кажется, что в каждом из нас стоит защитное устройство, не позволяющее совершить ошибку? Когда наши сердце и мозг подводят нас, остаётся интуиция. И моя интуиция говорила, что если я не дознаюсь до всего сегодня вечером, то не сделаю этого никогда. Поэтому после обеда я потихоньку покинула кухню, на цыпочках прокралась к гостевой и резко распахнула дверь, ведущую во мрак.
Брю лежал, укутавшись в одеяло, но я знала — он не спит. Я включила свет.
— Я желаю знать, что происходит в этом доме. И упаси тебя Господь, Брюстер, если ты мне соврёшь!
Он повернулся ко мне лицом, прищурился — внезапная иллюминация ослепила его.
— Всё будет хорошо, — сказал он. — А если что не так, то утром ты почувствуешь себя лучше.
О, это мне и без него известно! В том-то и проблема! Уже в этот момент я ощущала, как бурлящие во мне досада и возмущение успокаиваются и улетучиваются, словно дым через открытое окно. Однако оказалось, что я могу возобновлять их запас с большей скоростью, чем они исчезали, а это значит — меня не сбить с толку, я узнаю всё, что мне нужно!
— Выкладывай начистоту! — потребовала я.
Он сел на кровати.
— Ты уверена, что действительно хочешь знать правду?
Я кивнула, хотя моя решимость таяла с каждой секундой.
Брю встал, прошёл к двери и закрыл её.
— Почему бы мне просто не показать? — И он принялся медленно расстёгивать рубашку.
Человек думает, что хочет знать все тайны вселенной. Думает, что хочет увидеть, как всё вокруг связано одно с другим. Он в глубине души свято верит в то, что знание спасёт мир и сделает его свободным.
Может, так оно и случится.
Но путь к знанию редко бывает гладок и приятен.
Расстёгнута последняя пуговица, и вот Брю стоит передо мной с обнажённым торсом. Его тело выглядит не как нормальное человеческое тело. Кровоподтёк на кровоподтёке на кровоподтёке: пурпурные и жёлтые, болезненно красные, бескровно белые. Всё: и грудь, и плечи, и спина — выглядит так, будто его молотили цепами, избивали дубинами и неисчислимым количеством прочих тупых предметов. Это было хуже, чем все те увечья, которые когда-либо наносил ему дядя Хойт. Я вижу: синяки на лице и шее он замаскировал с помощью тонального крема — куда более умело, чем в тот день, когда он заявился в школу с чёрным глазом. Сейчас можно лишь с трудом различить, что это грим. Уверена: на всём его теле в самом широком смысле нет живого места. И все эти травмы — свежие, все они появились у него уже после смерти дяди.
— Кто это сделал?!
Он показал на одно пятно на плече:
— Это твоего отца, когда он упал на баскетбольной площадке. — Потом на другое: — Это Теннисона — на лакроссе. — Потом на третье: — Это твоё, не знаю, откуда оно у тебя.
Зато я знаю.
— Кто-то открывал машину и ударил меня дверцей… — глухо сказала я.
Он кивнул и продолжил своё перечисление, показывая на отметины на теле, как опытный астроном, называющий созвездия на небе:
— Это Джо Криппендорфа… Это Ханны Гарсиа… Это Энди Бомонта…
И так далее, и так далее. Этот монотонный речитатив, казалось, никогда не кончится. Кажется, он знал точно, откуда к нему пришла каждая рана — не всегда как и когда, но всегда от кого. Я кое-что вспомнила: «Мне нравятся твои друзья» — вот что он однажды сказал мне. До нынешнего мгновения мне и в голову не приходило, что для Брюстера Ролинса цена дружбы исчислялась травмами на его теле.
— Это Аманды Милнер… Это Мэтта Голдмана…
Я хотела бы, чтобы все слёзы мира хлынули из моих глаз и пролились ради него, но… у меня не получалось! Они тоже были украдены у меня. Мои слёзы наполнили теперь его глаза — и вот тут-то я и поняла, что всё зашло слишком далеко.
Затем он взял мою руку и крепко прижал к своей груди. Я услышала, как под моей ладонью бьётся его сердце.
— А это… — сказал он, — …это развод твоих родителей.
Я отдёрнула руку, словно дотронулась до тлеющих углей.
— Нет! Они не разведутся! Они обо всём договорились! Они счастливы!
Он одарил меня грустной, но удовлетворённой улыбкой и с полной уверенностью сказал:
— Я знаю.
61) Угасание
Я сбежала от него.
Это было бессердечно с моей стороны, это было трусливо, это было куда хуже, чем когда он сбежал от меня — в тот злополучный вечер с неудавшимся обедом. Но я же человек, как и Брю. Сработал инстинкт: мне необходимо убраться куда-нибудь подальше, в такое место, где я окажусь достаточно далеко от Брюстера, чтобы понять свои чувства и научиться управляться с ними. Я не могла позволить миру воцариться в моей душе за счёт Брю. Я должна научиться это делать сама.
И лишь когда я оказалась на улице, за воротами — только тогда все тревоги, сомнения и злость начали просачиваться обратно в мою душу. Нет, они не набросились на меня все разом, но границу влияния Брю я ощутила достаточно чётко.
Мои ноги работали на автопилоте — я даже не подозревала, куда они несут меня, пока не оказалась на месте.
Бассейн.
Было около девяти. Бассейн закрывали для публики в восемь, но подводное освещение не выключалось всю ночь. Входные ворота были закрыты, впрочем, я знала бассейн как свои пять пальцев: имелось с полдюжины способов проникнуть туда помимо главного входа. У меня не было купальника, но это не беда — дверь в кладовку никогда не закрывалась, и в ней стояла корзина с забытыми вещами — там полным-полно купальников.
Меня всегда завораживает самый первый момент, когда ныряешь в бассейн: пронзаешь стеклянно-застывшую толщу воды, и по её гладкой поверхности скользит лёгкая рябь. Совсем как когда ступаешь по первому, нетронутому снегу. Вот чего мне надо было — остаться наедине с собой и моей текучей вселенной.
Бр-р, прохладно! Чтобы согреться, решила сплавать свои обычные двадцать отрезков для разминки, но вскоре потеряла счёт — моя голова, словно компьютер, перешла в режим дефрагментации и попыталась сложить все случившиеся за последние несколько недель события в одну более-менее осмысленную картину.
Я хотела собрать вместе свою злость и досаду и направить их, словно луч прожектора, на тех, кто явился источником всех этих бед, поджарить их на огне своего негодования — и тем покончить дело. Но на кого же направить? Уж конечно, не на Брю: его дар — не его выбор. Не на Теннисона: не он это всё начал. Не на родителей: они вообще ни о чём не подозревают и понятия не имеют, откуда взялось их безоблачное душевное спокойствие.
Оставалась я сама.
Можно ли винить меня за то, что я вытащила Брю из его раковины и оставила беззащитным перед всей той массой яда, что мы носим в своих душах? Наша семья, казалось бы, сама по себе выбралась из пропасти, куда скатилась по собственной же воле, и как же я могла не догадаться, в чём причина этого возрождения?! Это я-то, которая всегда так гордилась тем, что могу смотреть в корень и докапываться до сути, судя по мельчайшим, еле заметным глазу зацепкам!
Ответ был только один.
Да, я виновата. Я знала.
Может, бессознательно, но всё равно — где-то в глубине глубин души я знала, что Брю пропускает через себя и те травмы, которые мы не в состоянии видеть — душевные. Я оставила это без внимания, потому что мне хотелось оставить это без внимания! Я любой ценой стремилась к тому, чтобы мой мирок был уютным, целостным и безопасным. Я использовала Брю — точно так же, как его использовали Теннисон, или Коди, или дядя Хойт. Так что обвиняющий луч выхватывал из тьмы не какого-то одного человека. Этот прожектор бил по всем нам.
А всё потому, что мы стремились к здоровью и счастью, как будто счастье — это состояние души. Но это не так. Счастье — это вектор. Это движение. Подобно моему собственному скольжению из одного конца бассейна в другой, счастье и радость определяются той скоростью, с которой ты уходишь от боли.