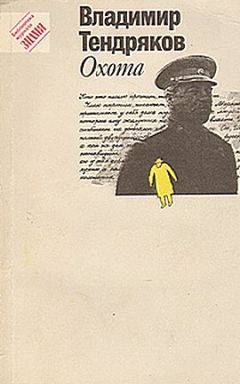Анна Кэмпион - В блаженном угаре
Проснувшись, сразу вскочил и стал соображать, как долго я проспал: солнце было еще высоко и шпарило с прежней неистовостью. Однако от ужаса я весь похолодел — напрасно я втайне надеялся, что она отдыхает, соблазнительно изогнув бедро, на одном из ближайших валунов, нет, она из последних сил бродит в эту жару по незнакомым тропам, кочкам и камням, ковыляет, бормоча себе под нос всякую чушь. Которую вбивал им в головы этот их аферист, гуру. «Помни: смерть разрушает только тело; помни: твоя земная оболочка и мирские надобности — завеса, скрывающая от тебя Бога. Помни: ты есть не только тело твое. Помни, помни, помни…» С чего это я решил, что окончательно победил этого Баба, откуда такое самомнение? И каковы, собственно, итоги? Провал. Оглушительный провал. Мало того что позволил клиентке сбежать, что не сумел удержать, создав оптимальную дистанцию, еще и оттрахал, да… то, что эта чертовка сама затащила тебя в постель, не в счет. Ты не должен был уступать, ведь на самом деле этим глупышкам из ашрамов ты не нужен! Вся драма в том, что они не нужны самим себе. Это же азы психологии! Мало того что оттрахал, но еще и скрыл свои подвиги от ее родных. Пора проявить элементарную порядочность. То, что произошло, не может оставаться нашей с ней тайной. Надо набраться мужества и побеседовать с Тимом. Представляю…
Я:
«Вы уж простите, но я вступил в интимную связь с вашей сестрой».
Тим:
«Во что, во что?!!»
Я:
«Да, так уж получилось, она сама попросила, умоляла. Утешь, говорит, меня (как трогательно!), мне, говорит, очень нужно. Я люблю вашу сестру и потому, виноват, с ней переспал (герой!)».
Тим:
«Минуточку, а как же тогда с этим, с де… мм… с депрограммированием?»
Я:
«Одно другому не мешает».
Тим:
«Хорош врать-то!»
Я:
«Почти не мешает».
И тут Тим и Робби набрасываются на меня с кулаками, а вокруг бегает разъяренная Ивонна и самозабвенно их науськивает.
Снова обвязываю ступню клочком от юбки, и в путь: прыг-скок по кочкам в восточную сторону… да, по-моему, восток там. Поросль тут довольно хилая, голо, по логике, и Рут, и меня рано или поздно разыщут. Я должен успеть поговорить с ней до всех остальных, вот что самое важное, попытаться добиться согласия, учитывая последний вариант демаркационной линии. Спрашивается, зачем? Зачем?! Она теперь вне твоего контроля — но я отдал… отдаю ей лучшее, что у меня есть. Вот-вот. Если она захочет утопить тебя в дерьме, если она вздумает это сделать, ей достаточно пары фраз, вроде: «что считать, коли нечего дать», «рожденный врать не врать не может».
Я, прихрамывая, ковыляю по выгоревшей желтой траве, две вороны роются в пыли, аспидно-черные на фоне розовой пыли. Мне кажется, одну из них, с облезлыми перьями, я как-то уже видел — рядом с домиком. Один глаз у нее мутно-мертвый. Тем не менее она с акульей ловкостью ищет, чем бы поживиться. А поживиться она готова всем, ничем не побрезгует. Скачет у самых ног, прыг-прыг. Я останавливаюсь, она тоже, я скачу, она рядом. Я сипло ору на нее, панически гоню прочь. Гадина, выжидает, когда же наконец подохну. Нечаянно оступившись, вдруг кубарем скатываюсь в мертвую реку, в пересохшее, покинутое водой русло, извивающееся меж толп древесных скелетов. От страха чуть не разорвалось сердце, кошмар… Зажмуриваюсь, и почему-то сразу перед глазами мобильник, а рядом с ним на столе наборчик для шитья, который она тогда крутила в руках. И почему я ей его не отдал?
РУ-У-УУУТ!
Она сразу меня раскусила. Да, я слюнявый старый развратник, я действительно хочу с ней спать. Моя Рут… Как она старается не сорваться в ответ на мои выпады, только смотрит с загадочной непроницаемой улыбкой и молчит, упорно молчит, моя воительница. Как же я люблю эти ее порывы откровенности, почти назойливой, когда она обнажает всю себя (зря я упомянул это слово: обнажает… ох, зря), всю душу. Я люблю ее, вот какая история, несмотря на это невыносимое упрямство, несмотря на все дикие выходки этой засранки… засраночки.
«Рут».
«Что?»
«Я говорил сейчас о тебе».
«И что?»
«Очень все хорошее и даже трогательное».
«И теперь хочешь, чтобы я по этому поводу бесилась от радости?»
«Я же не сумасшедший».
«Это точно, ни капельки не сумасшедший».
«Позволь мне поцеловать твои ноги».
«А вот этого не надо».
«Только ноги».
«Валяй. Целуй, если хочешь, они здорово у меня болят».
21
Самый прикол в том, что больше ни одной машины. Я давно уже здесь торчу, но после того красного фургона — фиг, ни легковушек, ни грузовиков. А я-то, увидев это поганое шоссе, чуть не умерла от счастья, изо всех сил рванула вниз по склону, думала, вот оно, спасение, сейчас же что-нибудь поймаю. Силы, видно, были самые последние, и теперь у меня подкашиваются коленки. Ладно, можно и посидеть, рано я обрадовалась. Смотрю на сизое дорожное полотно. Оно нестерпимо блестит и словно бы течет, словно бы меня гипнотизирует. Зыбкие струи жара над расплавленным гудроном пересекаются, кружатся, и голова моя кружится, наливается тяжестью… все… сплю-ю-ю.
…Вдруг просыпаюсь — оттого, что мне кажется, будто кто-то на меня смотрит, так, наверное, смотрят привидения. Но на дороге — ни единой души или машины, никаких признаков жизни. Нет, нельзя ему поддаваться, если распсихуюсь, будет еще противней, еще больнее… а голова просто сейчас лопнет, это от напряжения, оттого что стараюсь отогнать эту одурь, эту мутную пелену перед глазами. Прищуриваюсь и пытаюсь сообразить, куда она ведет, дорога. Но не могу определить, где запад, а где восток. Солнце садится на западе, однако пока оно никуда не собирается, вон как шпарит, печет мою несчастную голову… Да… А где же трусы? Ч-черт, не сразу понимаю, что ноги мои бредут вдоль шоссе, а глаза ищут эти проклятые трусы. Очень может быть, что я обронила их раньше, еще до того, как заснула. Господи, я должна их найти, роюсь в пластиковых пакетах, валяющихся на обочине. Может, эти пакеты связать и сварганить нечто вроде подгузника? Нет, ничего не получается, концы не связываются, расползаются в руках, тянутся, как разжеванная жвачка. Я в полной прострации, боже, это какой-то кошмарный сон: будто сидишь на толчке, а стены туалета вдруг исчезают. Даже не знаю, заметно ли вообще, что я без трусов. Плотнее прижимаю к паху край посудного полотенца, смотрю, не просвечивают ли волосы, оно ведь тоненькое. Хороша, ничего не скажешь! Я и не говорю… я уже ни о чем не могу думать, просто мечусь то туда, то сюда вдоль дороги, тупо продолжая высматривать машины — ни черта. Высматривать — сильно сказано, я так психую, что почти ничего не вижу. Та-а-ак, вроде едут, сразу две. В одной семейство с детишками, мама — за рулем. Она машет мне, я ей, она подъезжает, продолжая мне махать, хочу подойти, но вместо этого прищуриваюсь: вдруг мне просто показалось… что она готова меня забрать. Вторая катит — «вольво», на этот раз становлюсь посреди дороги. Улыбка — мах рукой — снова улыбка, и результат: «вольво» притормаживает. О-о, мужчина. Осторожненько подъезжает, смотрит, останавливается, снова смотрит. Шатен с короткой стрижкой, усы, темные очки фирмы «Рей-бан». Я бросаюсь к окну: «ПОМОГИТЕ! СПАСИТЕ! Помогите мне…» Проклятые книги все уже истрепались, рассыпаются, пальцы болят, натерла. Раздается скрежет: «вольво» отваливает, клочки страниц от резкого колебания воздуха взвиваются и летят на середину дорожного полотна. Видок у меня, однако… как у чокнутой, сбежавшей из психушки. Почему как? Я и есть чокнутая, кто бы сомневался… Нет, никто не захочет такое чучело везти.
Мысли путаются… никак не могу сообразить, с какой стороны лучше встать, где больше шансов кого-нибудь заловить. Картинка прямо из журнальчика Робби: голожопая красотка ловит попутку. Но никто на нее не клюет, хоть плачь. Стою как приклеенная у обочины, вся такая скромная и смирная, но они мимо и мимо — и легковые, и грузовые… Стараюсь держаться с достоинством: легкая скорбь, никаких жестов отчаянья, иначе опять спугну. Стыдливо помахиваю очередной машинке. Надо же… гудит, сбрасывает скорость, фары почему-то включенные. О господи… это же папа! Это его голова торчит из окошка, это он счастливо улыбается, скаля ровные желтоватые зубы. Резко свернув, подъезжает. Мне кажется, что я брежу, нет, не может быть. Даже страшно. А рядом с папой Билл-Билл, который во всю глотку орет:
— Рут! Рут!
Папа, вклинившись между его воплями, тоже кричит:
— Ох, Рути… Господи Иисусе, это ты?! Ты же вся обгорела. Живо залезай! Живо!
Но я не двигаюсь с места. Мне сейчас гораздо нужнее другое…
— Хочу пить!
— Конечно, детка, ну давай, прыг-скок.
Голос у него странно высокий и вибрирует, он зазывно трясет бутылкой:
— Ну же, дорогая, я жду.
— Пи-и-ть, — жалобно ною я, в этот момент я ничего не вижу, кроме бутылки.