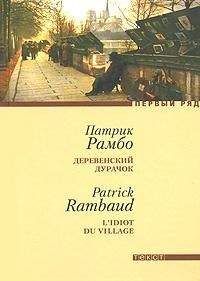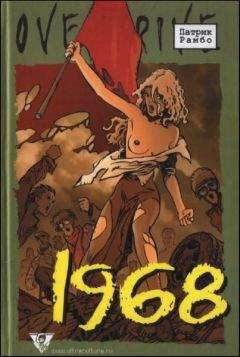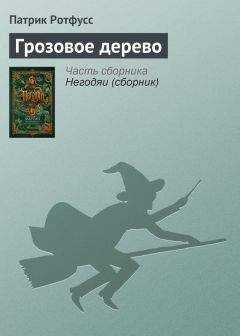Патрик Рамбо - Кот в сапогах
В глубине церкви, под ее высокими сводами, было очень темно. Под ногами хрустели осколки разбитых витражей. Они шли по галерее, окружающей хоры, ориентируясь только на свет, что проникал сквозь дверь, распахнутую на улицу Сент-Оноре, которая тонула в густой дымной пелене. Там наступило затишье. Своего неразлучного соратника Дюссо Сент-Обен обнаружил за дощатым ограждением, сколоченным над крыльцом, где мятежники прятались от пуль, когда перезаряжали свои ружья.
— Больше ни единого выстрела, бесценный друг. Уж не обратили ли мы этих адских республиканцев в беспорядочное бегство?
— Они получили трепку, — отозвался юноша в черном галстуке и с длинными болтающимися фалдами, — но их ждет другая, еще более суровая. При следующей атаке мы их сомнем, захватим проулок, снесем ограду — и вперед, на Тюильри?
— Вы видите то же, что я? — спросил Дюссо. — Мне это не мерещится?
Вслед за ним Сент-Обен вышел из их деревянного укрытия. Дым рассеялся. У начала Дофинова тупика он увидел три пушки, их дула были направлены на церковь, а на заднем плане вырисовывалась щуплая фигура генерала Буонапарте, застывшего на своем белом коне.
Как только от Барраса прибыли орудия, добровольцы 89-го тотчас потащили их к улице Сент-Оноре. Целый час, зажатые, как в капкане, возле своей несчастной единственной восьмифунтовой пушки, артиллеристы не могли толком целиться под пулями мюскаденов, рикошетом отскакивавшими от стен, под градом сыплющихся на них оттуда же кусков штукатурки, черепицы и даже целых оконных ставней. Три пушкаря уже валялись бездыханные на своих лафетах, барабанщик больше не бил в барабан, поднимая боевой дух товарищей, — пуля угодила ему прямо в лоб. Стиснув зубы, бледный, как полотно, Буонапарте поднял над головой свою саблю и резко опустил ее с криком:
— Огонь!
Первая пушка хлестнула картечью по ступеням храмового крыльца, скосив тех мятежников, что оказались впереди. Уцелевшим не дали времени опомниться:
— Огонь!
Вторая пушка разнесла в щепки пристроечку, где несколько мгновений назад прятались Сент-Обен и Дюссо.
— Огонь!
Третья пушка раздробила правый портал и измолотила картечью полуколонны фасада. В облаках дыма Буонапарте различал силуэты мюскаденов, одни метались, крутились на месте и падали, другие, обезумев и оскальзываясь в кровавых лужах, зажимали ладонями раны.
— Огонь!
В краткие промежутки между залпами, пока пушкари перезаряжали и целились в переулочки, где самые упорные мятежники еще постреливали из засады, генерал слышал гром других орудий — тех, которые расставили на набережной, и различал залпы гаубиц Брюна, поливающих картечью улицу Сен-Никез. Он подозвал Беррюйе; лошадь под старым генералом подстрелили, и тот подошел, сильно хромая.
— Прикажи половине своих людей занять окружающие нас дома, остальные пусть приготовятся очистить эту церковь холодным оружием.
Прячась под покровом густого порохового дыма, отряды крались вдоль стен домов и, ломая двери, врывались внутрь. Беррюйе перегруппировал своих волонтеров-якобинцев. Невзирая на боль в ноге, он пожелал сам вести их на штурм храма. Они ринулись туда, словно на абордаж, испуская дикие вопли, спотыкаясь о растерзанные трупы, неслись по ступеням вверх и топтали сапогами кокетливые треуголки, туфли из тонкой кожи с заостренными носами, очки, носовые платочки; кое-кто в качестве трофеев подбирал охотничьи ружья, редкое коллекционное оружие, брошенное бежавшими, лежали там и растоптанные золотые часы с цепочкой — остановившись, они показывая без четверти пять.
— Огонь!
Чтобы нагнать страху, шарахнули картечью над мостовой улицы Сент-Оноре на уровне вторых этажей домов. Когда шум прекращался, не слышно было уже ничего, кроме стонов боли и криков ужаса; раненые пытались ползти куда-то; один мюскаден упал с крыши, другой выбросился из окна, уронив свое разряженное ружье. Якобинцы генерала Беррюйе снова появились на крыльце храма Святого Роха, на сей раз с пленными, но таковых было совсем мало — в основном калеки, которые не смогли убежать через распахнутую настежь дверь ризницы, да какой-то мальчик, сотрясаемый нервическим припадком.
Баррас между тем, выезжая на аванпосты, всюду успевал энергично подбадривать своих генералов. И вот он, окруженный кавалеристами, появился у Дофинова тупика, где его уже ожидал застывший в неподвижности Буонапарте.
— Несколько сотен мертвых, — сообщил ему Баррас. — Мы избежали худшего.
— А их вожаки?
— Все в бегах, кроме Лафона: у него сквозная рана на бедре.
— Должны быть еще забияки, — наседал Буонапарте.
— Да они все разбежались, кто куда. Это всего лишь вертопрахи, горячие головы.
— Надо показать парижанам нашу силу.
— Разве ты со своими пушками продемонстрировал ее недостаточно?
— Что до пушек, их надо всю ночь возить по улицам города.
— Зачем эти ненужные провокации…
— Достаточно будет просто показать их.
— Поступай как знаешь, — отмахнулся Баррас, — так или иначе, Париж наш. Дювиньо со своим отрядом продвигается по бульварам, Брюн занял Пале-Рояль, Карто обратил в паническое бегство мятежников с правого берега, наши солдаты выкуривают их из последних нор: на острове Святого Людовика, во Французском театре, в Пантеоне…
Темнело. Добровольцы генерала Беррюйе зажгли факелы от еще не потушенных пушкарских фитилей и с ними выступили впереди Барраса и Буонапарте, которые верхом на лошадях, шагом, бок о бок направились в сторону улицы Вивьен. Их кортеж не встретил на пути никого, кроме солдат. Баррас поинтересовался у своего протеже:
— Ты видел, откуда был сделан тот первый выстрел?
— Прекрасно видел, как в театре. Стреляли прямо напротив меня. Едва мы получили твои две пушки, какой-то мюскаден или агент Лондона, это мы выясним, наудачу пальнул в нас, никого не задев. Тогда мы дали отпор.
— Согласно приказу.
— Твоему приказу.
— Мне докладывали, что стреляли из окна кафе Венюа.
— Нет. С четвертого этажа соседнего дома. Я видел вспышку.
— Почему этот идиот развязал бойню?
— Вероятно, ему надоело ждать, впрочем, так же, как и нам. Но он был не столь дисциплинирован.
— Хотел бы я знать его имя.
Буонапарте промолчал. Приблизившись к улице Вивьен, они увидели обломки вчерашней баррикады, вдребезги разнесенной ядрами, рядом зиял портал монастыря Дочерей Святого Фомы. Якобинцы вошли туда с факелами и ружьями, держась настороже, но нет, нигде ни души, только две лошади, бродя по заросшему монастырскому саду, щипали в потемках бурьян, да покачивался на ветру фонарь перед часовней, где прошумело столько пламенных дискуссий.
По площади Карусели одна за другой катились повозки, груженные ранеными. Гренадеры и депутаты помогали перетаскивать их в залы Тюильри, приспособленные под лазарет. Вот и Делормель взбирается по ступеням, цепляясь за поручни, с гусаром на спине. Раненый поскрипывает зубами, его раздробленная нога безжизненно болтается. Хирург помогает народному представителю избавиться от своей ноши; вдвоем они укладывают гусара на банкетку, обитую зеленым бархатом. Еще в самом разгаре мятежа посланцы Конвента отправились за врачами и фельдшерами в госпиталь Гро-Кайу; теперь все эти медики переходили от одного умирающего к другому, кому мягким привычным движением ладони закрывали глаза, кому обматывали бинтами из простынь искореженные руки и ноги, и на ткани тотчас проступали багровые пятна. Хирург с помощью пинцета извлек пулю, засевшую в бедре пациента, и опрыскал рану водкой. Со всех сторон слышны стоны, жалобы, но кто-то уже спрашивает, что слышно новенького. Пушкарь с раздробленной ключицей, которого усадили на трофейные вражеские знамена, устилающие пол длинной залы, рассказывал, что у восставших тоже имеются пушки, они у них в Бельвиле, а стало быть, уличные бои еще не закончены. Вдали то били барабаны, возвещая общий сбор, то кто-то затягивал «Марсельезу». Покидая залу заседаний, депутаты, обогащенные новыми сведениями, заглядывали сюда, и всякий раз подтверждали: вожаки мятежников унесли ноги; при таких известиях гренадер со вспоротым животом, распростертый на тюфяке, испустил дух с улыбкой на устах. Самое деятельное участие в происходящем принимали женщины, сновавшие туда-сюда, стараясь облегчит мучения раненых ласковым словом или делая перевязки. Но простыней уже не хватало, и вот один из депутатов жертвует носовой платок, а Розали, сбросив мужской редингот, разрывает рубашку, чтобы забинтовать открытую рану на лодыжке гримасничающего от боли великана-жандарма. Увидев супругу с голым бюстом среди всего этого хаоса, Делормель подошел к ней и прошептал на ухо:
— Ты с ума сошла, разве можно в таком непристойном виде ухаживать за этими бедолагами?