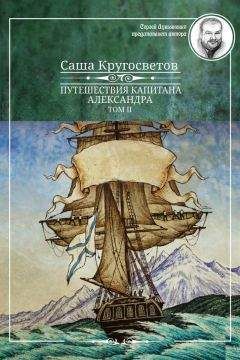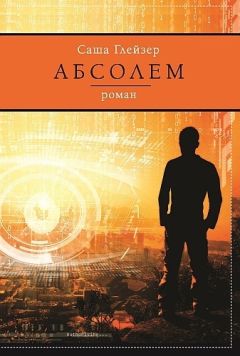Саша Окунь - Камов и Каминка
Примером подлинной преданности традиции художнику Каминке казался Матисс. Он хорошо помнил первый свой визит в Париж, когда, ежесекундно удивляясь тому, что вокруг все говорят по-французски, что наконец-то он собственными ногами ступает по священному асфальту города своей детской мечты, что его легкие дышат тем самым воздухом, глаза вбирают в себя до боли знакомые по книгам и музеям пейзажи, когда, компенсируя долгие годы тоски и мечтаний, он, словно уличный пес, задирающий лапу, чтобы пометить свою территорию, километрами заглатывал улицы, по которым ходили герои его юности, прикасался к двери, которую открывал Ван Гог, гладил деревья, которые писал Моне, заказывал кофе в «Ротонде», чьи стулья, столы, даже унитаз были освящены прикосновениями великих людей. Здесь, на улице Больших Августинцев, мастерская Пикассо, неподалеку, у площади Фюрстенберг, мастерская Делакруа, сразу за Люксембургским садом мастерская Липшица, там, на правом берегу, на Монмартре в Бато Лавуар, жили Шагал, Сутин, Модильяни, Бранкузи…
В тот солнечный осенний день, теплый, беззаботный, именно такой, каким, по его мнению, и должны были быть осенние парижские дни, он, щурясь на свет, вышел из Клюни, где в полумраке ротонды только что впервые воочию молитвенно смотрел на шпалеры с единорогом, преклонившим колени перед юной девой. Озираясь по сторонам, в непреходящем удивлении и восторге от того, что все, о чем он читал и слышал, существует в действительности, он по бульвару Сен-Мишель спустился к Сене, перешел на правый берег, оглянулся на Консьенжери, где вчера своими глазами видел камеру Марии Антуанетты, двор с каменным корытом, где перед гильотиной стирали свое бельишко герцогини и маркизы… Слева универмаг, где служили герои Золя, дальше Лувр и церковь, чьи колокола дали сигнал к резне Варфоломеевской ночи, – видел ли он тогда, в свой первый визит, реальный город или он был напрочь вытеснен Парижем мечтаний, Парижем сновидений и легенд? У стойки бара он спрашивал «Анжуйское», которое пили мушкетеры, и, священнодействуя, впервые в жизни подносил к губам кальвадос, любимый напиток Робби, Отто, Готтфрида, Равика… Где-то минут через сорок он оказался напротив Центра Помпиду. Все вызывало в нем восторг: и пары, лежавшие в обнимку на мостовой, и жонглер, ловко подбрасывающий в воздух шары, и лениво потягивающий из бутыли вино клошар с собакой. Больше всего ему хотелось сесть на мостовой и смотреть на целующиеся парочки: конечно, говорил он себе, где же еще целоваться, как не в Париже, в Париже обязательно все целуются, – но все-таки он одернул себя и заставил зайти в музей, хотя, по правде говоря, ни сил, ни желания у него уже не было. Он машинально ходил от работы к работе и, уже мало что способный понять, с трудом заставил себя зайти в закуток с работами Матисса, как вдруг одна из работ властно поманила его к себе. «Портрет девушки в румынской кофточке» – так называлась эта работа. И глядя на нее, художник Каминка понял, что между ней и дамой из аббатства Клюни, в сущности, нет разницы. У этих, разделенных пятью сотней лет женщин была общая ДНК. Совершенно одно и то же понимание цвета, линии, пространства. Просто через пятьсот лет гигантское дерево французской культуры выпустило еще одну ветку. Формой она отличается от других, немного другого оттенка листья. Но все эти ветви – плоть от плоти благородного дерева, называемого французской традицией.
Кого только не приютил этот город сто с лишним лет назад: испанцы, итальянцы, евреи, мексиканцы, японцы, болгары, русские… Рачительные французы не упустили ни одну веточку из этого разноязыкого букета, заботливо собрав их в буке-гарни под названием «Парижская школа» – чудесная приправа к французскому консоме. А тут же рядом, в этом же городе, в это же время садовник по имени Анри Матисс заботливо и методично, как все, что он создавал, возделывал клумбу по имени «Фов», и расцвела она цветами дивной несказанной красоты. И среди этих цветов не было ни одного чужого, сколь хороши они бы ни были. Ну ладно, был там один голландец, но ведь каждый знает, что исключение только подтверждает правило…
Появление фовизма сопровождалось скандалом: революция! Но прошло время, и стало очевидно, что не те, кто, стуча себя в грудь кулаком и клянясь в верности традиции, были ее защитниками, ее наследниками, а этот спокойный человек в очках и с профессорского вида аккуратной бородкой. А его вечный конкурент, не просто революционер, а можно сказать, революционер профессиональный – куда там Бакунину и компании, – проживший всю свою жизнь во Франции, французским художником не стал: родился, жил и умер испанцем.
Традиция – не высохшая старая дева строгих правил, не мумия, не почтенная матрона, а полная жизни вечно юная проказница-девчонка с тысячами лиц. Она не любит послушных, воспитанных, правильных. Только самому отважному, самому упрямому, самому дерзкому она позволит поднять вуаль и явить всему миру свое новое, еще никем не виданное лицо. И пока самозваные защитники, стоя на страже ее чести и достоинства, плотными рядами окружают ее роскошную резиденцию, она, сбежав оттуда, спит в нищей мансарде со своим очередным избранником и в ее чреве уже зреет новый плод…
* * *У входа в зал, где была выставлена его работа, художник Каминка столкнулся с Кирой.
– Ну что ж, тебя можно поздравить? Какой успех…
– Да я, – начал было Каминка, но она перебила его:
– Лучше поздно, чем никогда…
А успех и в самом деле был. У работы художника Каминки выстроилась очередь желающих заглянуть в дыру.
Инсталляция и впрямь выглядела весьма эффектно. Текст, квадратным шрифтом на иврите справа и римской антиквой по-английски слева, был врезан в от стены до стены и от пола до потолка дугой идущую выгородку из травертина. В центре на уровне человеческого роста располагалась дырка диаметром в три сантиметра. Стена выглядела весьма внушительно, величественно даже – чистый Колизей, не зря травертин, где они его достали, это ведь деньги какие…
– Да, – художник Каминка склонил голову на бочок и потер подбородок, – поэффектнее, чем куча мусора и уже изрядно поднадоевшие экраны…
Меж тем к нему подходили все новые и новые знакомые и незнакомые люди. Поздравления, комплименты, весь этот привычный обязательный вернисажный шорох. Он смущенно улыбался, жал руки, целовался. Страх, что сейчас его выведут на чистую воду, разоблачат, опозорят, испарился, уступив место облегчению, осторожной радости и недоверчивому удивлению: неужели никто из них не видит, что это бред, чушь, издевательство, наглое кривляние, площадная клоунада?
– Очень интересно! Тем более что в другой беседе с Кремье Левинас отметил…
– Да, да, – кивнул художник Каминка, – извините… – Он повернулся к даме с крупными изумрудными серьгами в ушах, завкафедрой искусствоведения Тель-Авивского университета: – Простите, я не расслышал?
– Глубокие, парадоксальные и неожиданные мысли.
– Благодарю вас, профессор Кишон…
…Окончательно он понял, что его вынесло на гребень успеха, когда Овсяннико-Куликовская, смерив его взглядом умных маленьких глазок, покачала головой:
– Да, Каминка, интересное с тобой кино вышло. Неужели ты что-то начал соображать? – И после легкой паузы сказала: – Я возьму у тебя интервью для «Матадора».
Глава 21
В которой наших героев знакомят с некоторыми фактами жизни
К двенадцати часам Камов и Каминка прибыли к служебному входу в Тель-Авивский музей. Охранник, сверившись со списком, попросил у художников удостоверения личности, покрутил в руках русский паспорт, бросил внимательный взгляд на лыжи, кинул документы в ящик стола, выдал художникам по бирке с надписью «посетитель», сказал в микрофон: «Каминка и Камов к главному» – и, бросив посетителям: «Ждите», уткнулся в газету.
Каминка с любопытством и некоторым волнением оглядывался вокруг. За последние десять дней он вдосталь вкусил славы, и она ему понравилась. Статьи в газетах, интервью по радио, приглашения на самые рейтинговые передачи ТВ и, наконец, звонок министра культуры с извещением о том, что ему присуждена Государственная премия с формулировкой «За вклад в культуру и образование Израиля». «А. Каминка, сочетающий в своем творчестве культурное наследие прошедших эпох с современным, оригинальным языком, является впечатляющим примером жизнеспособности сионизма, творческой молодости и готовности к постоянному развитию и обновлению». Его фейсбук был завален поздравлениями, коллеги были необычайно предупредительны и любезны, а ректор Академии прислал корзину цветов, предложил срочно подать документы на профессуру и при встрече намекнул на то, что порекомендовал кандидатуру Каминки в качестве представителя Израиля на очередной Венецианской биеннале.
Камов был вполне удовлетворен результатами своей проделки, но с неким удивлением обнаружил, что художник Каминка, похоже, начинает относиться к происходящему с неподобающей серьезностью.