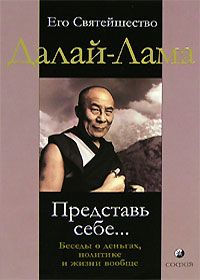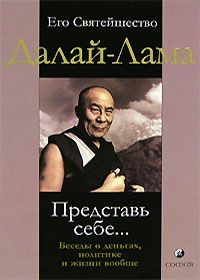Мюриэл Спарк - На публику
Обыкновенно я вставала в семь, но как-то раз проснулась в половине шестого утра, спустилась из своей комнаты вниз и вышла во двор поискать кого-нибудь, кто сварил бы мне чашку кофе. Спиной ко мне, в лучах восходящего солнца, стояла фрау Люблонич. Она обозревала свои гряды с овощами, свои обширные поля, свои закрома, свои свинарники, где уже работали две пожилые женщины. Один ее сын вынес из кладовой связки длинных колбас. Другой вывел на цепи вола, надев ему на голову мешок, обмотал цепь вокруг дерева и оставил вола дожидаться, пока не придут с бойни. Фрау Люблонич все стояла, объемля взором свои владения, своих свиней, своих свинарок, свои каштаны, свои бобы, свои колбасы, своих сыновей, свои пышные гладиолусы, причем — словно у нее и на затылке были глаза — видела, как почудилось мне, свою благоденствующую гостиницу и мясную лавку, и мануфактурную, и бакалейную.
Когда она наконец повернулась во всеоружии, готовая грудью встретить трудовой день, я поймала ее взгляд, брошенный на убогий отель Штро по ту сторону дороги. Я заметила, как углы ее губ дрогнули насмешливо, словно в предвидении чего-то неизбежного: маленькие глазки блестели, явно предвкушая поживу.
Сразу можно было понять, не обращаясь даже с расспросами к местным жителям, что фрау Люблонич выбилась в люди, ничего не имея за душой, и всем обязана лишь своему уму и трудолюбию. Правда, работала она, не щадя себя. Она сама стряпала на всех. Она сама вела хозяйство и, внешне неторопливая, развивала в своей деятельности ту же головокружительную скорость, с какой проносились мимо ее гостиницы одержимые автомобилисты из Вены. Она чистила огромные котлы, без устали выскабливая их кругообразными взмахами короткой толстой руки; и само собой, она никогда не полагалась на добросовестность прислуги. Она не считала зазорным для себя подметать полы и кормить свиней, а часто сама торговала в мясной лавке, назойливо подсовывая покупателю под нос огромные колбасы, дабы он понюхал их и убедился в высоком качестве товара. За весь день она позволяла себе присесть только один раз, когда обедала на кухне, хотя вставала чуть свет, а ложилась в час ночи.
Зачем, ради чего она так старается? Давно уже выросли ее сыновья, у нее прекрасная гостиница, прислуга, лавки, свиньи, поля, рогатый скот...
В кафе за рекой, куда я забрела под вечер, говорили так:
— Это еще что, фрау Люблонич богаче, чем вы думаете. Она скупила земли до самой горы. У нее и фермы есть. Ее, пожалуй, и река не остановит, она приберет к рукам все до ближайшего города.
— Ради чего она так надрывается? Одета как простая крестьянка, — говорили люди. — И сама кастрюли чистит.
Фрау Люблонич была здесь притчей во языцех.
Она не ходила в церковь, она была выше церкви. Я надеялась увидеть ее там, в приличном платье, на второй скамье, позади самого графа и графского семейства, рядом с аптекарем, зубным врачом и их женами; или, быть может, она предпочтет место поскромнее, среди простых прихожан. Но фрау Люблонич сама себе была церковью и даже внешне очень походила на луковицы здешних куполов.
Я бродила у подножья горы, в то время как мастера этого дела в спортивных ботинках самоотверженно взбирались по заоблачной крутизне. А когда начинался дождь, они сообщали, вернувшись в гостиницу:
— Опять Тито насылает ненастье.
Служанкам эта острота давным-давно навязла в зубах, но они заученно изображали на лицах улыбку и подавали на стол непременную телятину.
Подняться повыше в горы я могла разве только на автобусе. Но куда соблазнительней были для меня неприступные вершины характера фрау Люблонич.
Как-то ранним утром, когда все вокруг ослепительно сверкало после бешеной ночной грозы, я спустилась вниз выпить кофе. Только что я слышала снаружи голоса, но, когда вышла, говорившие уже ушли со двора. Идя на голоса, я приблизилась к темной каменной пристройке, где была кухня, и заглянула в дверь. На кухне болтали служанки, а в глубине виднелась еще дверь, обычно наглухо закрытая. Но в то утро ее не закрыли.
За ней была спальня, уходившая в глубь дома. Спальня поражала царственным великолепием. Она вся алела и блистала позолотой. Я увидела кровать под балдахином, высокую, застеленную роскошным оранжевым покрывалом. В изголовье, сияя белизной, вздымались подушки — кажется, их было четыре. Спинка кровати из черного дерева искрилась золотистыми блестками. Балдахин украшала золотая бахрома. Ложе это напомнило мне великолепную постель, которой Ван-Эйк украсил портрет Яна Арнольфини и его супруги. Вся прочая мебель в гостинице была дешевого полированного дерева местных пород, но эта кровать поистине могла считаться вдохновенным произведением искусства.
Пол спальни был устлан красным, или, вернее, малиновым, ковром, но, оттененный оранжевым покрывалом, он казался драгоценным пурпуром. На стенах по обе стороны кровати висели турецкие ковры, создавая пышный однообразный фон, красный, почти в античном духе, сгущавшийся до черноты в тени балдахина.
Я была поражена. Служанка по имени Митци увидела, что я стою на пороге кухни.
— Вам кофе сварить? — спросила она.
— Чья это комната?
— Фрау Шеф. Она здесь спит.
Другая служанка, Герта, высокая, худощавая, с насмешливым лицом, которая все воспринимала не без юмора, шмыгнула к двери спальни и сказала:
— Эту дверь отворять не велено.
Но прежде чем закрыть дверь, она распахнула ее настежь, давая мне возможность заглянуть подальше, Я увидела печь, выложенную мозаикой, диковинной в этих местах: плитки были блестящие, желто-зеленые — вроде тех, какими выложены полы в развалинах Византии. Сама печь высилась подобно храму. А еще я увидела черную лакированную горку, инкрустированную перламутром, и, прежде чем Герта притворила дверь, заметила на горке роскошные часы, украшенные пастельными миниатюрами в розовых тонах; бронзовый футляр этих часов весь был в причудливых раззолоченных завитушках. Часы сверкали в лучах утреннего солнца, пробивавшихся сквозь занавеси.
Я перешла в столовую, села за полированный стол, и Митци подала мне кофе. За окном я увидела фрау Люблонич в простом темном платье, черных башмаках и шерстяных чулках. Она ощипывала цыпленка, бросая перья в ведро. А поодаль, за дорогой, мрачно стоял в открытых дверях своего отеля герр Штро, толстый, небритый, с расстегнутым воротом. Казалось, он размышлял о фрау Люблонич.
В тот же самый день вышла неприятная история. Широкие окна моего номера были прямо напротив окон отеля Штро, в каких-нибудь двух десятках футов — их разделяла узкая дорога, которая вела к границе.
День выдался прохладный. Я писала письма у себя в комнате. Случайно я бросила взгляд в окно. У окна напротив стоял герр Штро и бесцеремонно глазел на меня. Его любопытство мне не понравилось. Я опустила штору, зажгла свет и вновь принялась за письма. Интересно, подумалось мне, успела ли я совершить какое-нибудь неприличие за то время, что герр Штро подглядывал за мной, — скажем, постучала ручкой по лбу, почесала нос, ущипнула себя за подбородок или сделала еще что-нибудь в том же роде, как это случается, когда пишешь письма. Опущенная штора и искусственный свет раздражали меня, и я вдруг подумала, а с какой стати за мной подглядывает этот человек и мешает мне писать при дневном свете. Я погасила электричество и отдернула штору. Герр Штро исчез. Я подумала, что он понял мое негодование, и продолжала писать.
Когда я немного погодя снова подняла голову, герр Штро сидел на стуле чуть поодаль от окна. Он, не таясь, рассматривал меня в полевой бинокль.
Я спустилась вниз, решив пожаловаться фрау Люблонич.
— Она на рынок пошла, — сказала мне Герта. — Будет через полчаса.
Тогда я выложила свои жалобы Герте.
— Я скажу фрау Шеф, — пообещала она.
Что-то в ее тоне заставило меня спросить:
— А раньше такого никогда не случалось?
— В нынешнем году уже было раз или два, — ответила она. — Я поговорю с фрау Шеф. — И добавила с обычной своей театральной гримаской: — Он, может, хотел сосчитать, сколько у вас ресничек.
Я вернулась к себе. Герр Штро сидел, как прежде, только руку с биноклем опустил на колени. Но едва я вошла, он снова поднес бинокль к глазам. Я решила тоже не сводить с него глаз до возвращения фрау Люблонич, а там уж пускай она сама разбирается.
Полчаса я терпеливо просидела у окна. Изредка герр Штро опускал бинокль, но с места не вставал. Я видела его отчетливо; временами поднося бинокль к глазам, он как будто ухмылялся, хотя это мне скорее всего чудилось. Но он, несомненно, видел мое пылающее возмущением лицо так, будто оно было у него под самым носом. Теперь уже оба мы не могли отступить, и я краем глаза следила за дверьми отеля Штро, в надежде, что вот-вот туда заявится фрау Люблонич, или кто-нибудь из ее сыновей, или, быть может, одна из служанок с изъявлениями протеста. Но никто не шел к отелю Штро ни со стороны парадной двери нашей гостиницы, ни с черного хода. Я все таращила глаза, а герр Штро все сидел, уставившись на меня в бинокль.