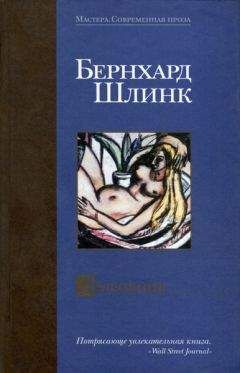Бернхард Шлинк - Любовник
— Может, это вопрос протокола. В вертолете мы были бы в руках военных, а так мы в руках повстанцев и военных.
— Им что, лучше, чтоб мы взлетели в воздух, чем договориться насчет протокола? — Канадец покачал головой и сделал еще один глоток. — Пойду спрошу.
Но не пошел. Офицер и команданте стояли рядом и возбужденно переговаривались. Потом команданте прошел к своему джипу, сел за руль, проехал мимо остальных машин, да так, что сучья и земля на обочине взметнулись фонтаном, а канадец с немцем отскочили в стороны, и затормозил поперек дороги перед джипом офицера. Канадец молча протянул немцу фляжку. — У меня в чемодане еще есть.
4Чем выше в горы они поднимались, тем медленнее продвигались вперед. Дорога становилась все уже и хуже. Она была вырублена в скале, которая с одной стороны отвесно вздымалась вверх, с другой же круто спускалась вниз, в долину. Иногда им приходилось оттаскивать в сторону обломки скалы, заполнять выбоины камнями и ветками или страховать с помощью троса едущий следом джип, если под головной машиной начинала осыпаться скальная крошка. Воздух был теплым и влажным, и над долиной повис туман.
Когда они достигли перевала, уже стемнело. Команданте остановил машину.
— Дальше сегодня не поедем.
Офицер подошел к нему, они тихо обменялись парой слов, немец их не разобрал, потом офицер крикнул:
— Выходите из машин. Завтра дальше поедем. Слева от дороги была широкая площадка, там приткнулась небольшая церквушка, а взгляд терялся в необъятной громаде занавешенной туманом горной цепи, на которую уже спустились лиловые сумерки. Церковь выгорела изнутри. Пустые дверные и оконные проемы были покрыты слоем копоти, стропила обуглились. Но башня осталась неповрежденной: приземистый куб, на нем изящная, тоже кубической формы колоколенка, а над ней — купол с крестом. Когда темнота скрыла следы пожара, церковь в темных покровах ночи казалась невредимой на фоне серого неба. Она походила на любую церковь в предгорьях Альп где-нибудь в Баварии или Австрии.
Немец вспомнил об одном эпизоде из своей жизни. Было это двадцать лет тому назад. Они с сыном две недели каникул провели на озере возле Мюнхена. Однажды вечером в начале второй недели они, как и каждый вечер, пошли в церковь на окраине деревни. Она стояла на возвышении, вниз, в направлении деревни, полого спускалась площадка, а там луга переходили в холмы и пригорки, чтобы где-то вдалеке стать Альпами. Они сидели на каменной скамейке на площадке. Стояла осень, вечерами было свежо, но камень скамьи еще хранил тепло дневного солнца. На краю площадки остановилась машина с открытым верхом, из нее вышли его бывшая жена и ее молодой друг. Они подошли и остановились перед скамейкой, жена смотрела кокетливо и в то же время чуть смущенно, теребила оборку белого платья с золотым поясом, а друг стоял, широко расставив ноги, — в черных кожаных штанах и в белой рубашке с отложным воротником.
— Привет, мама. — Мальчик, заговорил первым, чуть подавшись вперед, как будто хотел вскочить со скамейки и убежать, но остался сидеть.
— Привет.
Потом заговорил друг. Он настаивал, чтобы сын поехал с ними. Суд постановил, что на осенних каникулах мальчик должен проводить с отцом только одну неделю. Вторая неделя была за матерью.
Да, все это так, но только они договорились по-другому. Жена знала это, но молчала. Она боялась. Боялась потерять своего друга, хотя видела, каким чванливым он был и как заносчиво говорил о том, что мальчик должен быть с матерью и с ним, мужчиной, с которым она живет. Отец видел ее страх, а также страх, скрывавшийся за надменностью ее друга, который по своей значимости и положению в обществе чувствовал себя ниже его и не мог обратить в свою пользу преимущество возраста. Он видел страх сына, который делал вид, что все происходящее его не касается.
А друг вошел в раж, начал кричать о похищении, судебном разбирательстве и тюрьме, прикрикнул на сына, чтобы шел к машине. Сын пожал плечами, встал и застыл в ожидании. Отец увидел вопрос в его глазах, немую просьбу кинуться в бой и победить, а вслед за этим — разочарование отцовской капитуляцией. Ему надо было бы наорать на наглеца, врезать ему как следует или схватить сына и удрать вместе с ним. Это было бы лучше, нежели смириться, пожать плечами и с беспомощной и жалостливой улыбкой кивнуть ему, мол, держись!
Он что, хотел тогда облегчить положение сына? А, может быть, матери? Или свое собственное? Разве он не был втайне рад тому, что сын ушел, а он опять мог заняться своей работой?
Джипы пересекли площадку и замерли на стоянке перед церковью, с работающими моторами и включенными фарами. Офицер и команданте выкрикивали приказы, солдаты что-то делали внутри церкви. Немец прошел через площадку мимо башни и обнаружил за ней сгоревшую пристройку, состоявшую из двух комнат, за клиросом была лестница, сбегавшая вниз по склону. Было слишком темно, чтобы увидеть, где она кончалась. Он стоял и глядел на ступеньки. Иногда до него доносился крик, будто птица кричит во сне. Но тут его позвал офицер.
Он обернулся и пошел назад. И только тогда увидел, что кто-то притаился, скорчившись, на верхней ступеньке лестницы. Он испугался, у него было такое чувство, что его подслушивают и за ним наблюдают. Он не мог разглядеть, кем была фигура в темной накидке — мужчиной или женщиной? Не глядя на него, человек что-то произнес. Что, он не понял. Он переспросил, но тот продолжал говорить, а он даже не мог разобрать, было ли это повторением уже сказанного. Офицер вновь позвал его.
В церкви в свете фар суетились водители, отбивали обугленную древесину со стропил, скамей и исповедален, складывали все в кучу, мели пол на клиросе перед алтарем. Офицера и команданте не было видно. На каменном пороге перед дверью в башню сидел канадец с плоской серебряной фляжкой в руке.
— Идите сюда! — Он приглашающе помахал рукой с фляжкой.
Немец присел, сделал глоток, следующим ополоснул рот, внутри стало тепло.
— Вы знаете, зачем необходимы спальные мешки и провиант в случае ночевки в монастыре? Ведь там внутри они разведут огонь, чтобы приготовить пищу, а на клиросе мы будем спать.
Немец проглотил виски, сделал еще глоток.
— На случай возникновения непредвиденных ситуаций. Они знали, в каком состоянии дорога и что такие ситуации могут возникнуть.
— Они знали, какая будет дорога? И, несмотря на это, везут нас на джипах, вместо того чтобы переправить через горы на вертолете?
— Я ни разу не летал на вертолете.
— Тра-та-та-та-та, — канадец покрутил рукой с фляжкой над головой. Он был пьян.
Потом они услышали два выстрела, секунду спустя — третий.
— Это команданте. Во всяком случае, это его пистолет. У вас есть с собой пистолет?
— Пистолет?
Команданте и офицер вышли из темноты ночи.
— Почему стреляли? — Канадец бросился им навстречу.
— Он подумал, что услышал гремучую змею. — Команданте кивнул головой в сторону офицера. — Но здесь их не бывает. Не беспокойтесь.
5Во время ужина канадец повел разговор с команданте. Он сказал, что уверен, стрелял он, а не офицер, и спросил, почему он это отрицает. Тут офицер начал подсмеиваться над инженером. Ах, он точно слышал, что выстрелы произведены из ТТ. Так он по звуку узнает, что стреляет, ТТ или пистолет Макарова, браунинг или беретта? Не странно ли, что именно он так хорошо узнает пистолеты по «голосу»? Так великолепно разбирается в оружии? Именно он? Канадец взглянул на него вопросительно.
— Вы же тогда переехали из Америки в Канаду, потому что не хотели иметь ничего общего с оружием, так ведь?
— И что?
Офицер рассмеялся и ударил себя по бедрам.
Когда костер прогорел и они лежали в спальных мешках, немец смотрел сквозь обгоревшие стропила на небо. Его вновь поражала эта звездная бездна. Он опять искал тот движущийся свет, за которым можно было бы следить глазами. И не находил его.
Настоящий отец борется за своего сына. Он дерется за него. Или бежит вместе с ним. Но не сидит просто так, пожимая плечами. Не смотрит с идиотской ухмылкой, когда у него забирают сына.
Он вспомнил и о других, столь же постыдных сценах. Обед с вышестоящими коллегами, которые игнорировали его и которых он презирал, но тем не менее хотел сделать им приятное. Вечер с женой и ее родителями, когда тесть дал ему почувствовать, что хотел бы видеть рядом с дочерью другого мужа, а он молча сидел с вежливой улыбкой на лице. Урок танцев, последний танец он танцевал с самой симпатичной девушкой, но сделал хорошую мину при плохой игре, когда другой, один из сильных мира сего, взял и с улыбкой увел ее, хотя именно он, который танцевал с ней последним, должен был, следуя правилам, проводить ее домой.
Лицо горело, стыд душил его. Воспоминания обо всех поражениях в жизни, невоплощенные намерения, умершие надежды — все это слилось в одно мучительное чувство — стыд. Как будто он хочет убежать от самого себя и не может, как будто что-то изнутри разрывает его на части. Как будто что-то рассекает его на две половины. Да, подумал он, это стыд. Физическое чувство раздвоенности, сердце, состоящее или состоявшее из двух половинок. Одной такой половинкой я презирал коллег, а другой хотел сделать им приятное, своего тестя я наполовину ненавидел, но в то же время наполовину почитал, ради жены. Да, я хотел пойти с той симпатичной девушкой, но не желал этого всем сердцем и всей душой. И сыну своему я был отцом только наполовину.