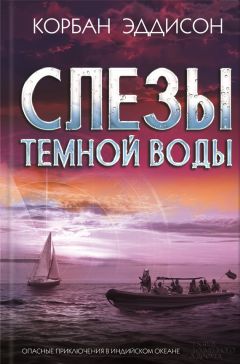Жильбер Сесброн - Елисейские поля
— А что у вас, Шарль?
— В каком смысле?
— Я спрашиваю, что у вас сегодня нового?
— Ну… вы же знаете, — отвечал он. Прижатый к стене, он должен был снова раздувать огонь своей выдумки. Теперь он сочинял, почти не испытывая стыда. — Мне поручили составить отчетный доклад… — Или: — Сдается мне, что меня собираются избрать ответственным секретарем…
— Соглашайтесь, Шарль, — серьезно говорила мадам В.
Охваченный внезапным раскаянием, он предлагал:
— Матильда, давайте сходим в воскресенье в сады Альбера Кана? Говорят…
— Друг мой, вы же знаете, ходьба меня утомляет.
Ну и слава Богу! Ему было бы жаль разделить с кем-нибудь царство. А может, он боялся, что равнодушие супруги еще более углубит пропасть, которая и так лежит между ними, хотя она и не замечала этого. Или опасался, что выдаст себя, не сдержав восторга перед такой красотой. «Вот уж никогда не думала, Шарль, что вы так любите природу!» — сказала бы Матильда.
Его тоже утомляла ходьба, причем с каждым днем все больше и больше. Нередко, добравшись до сада, который он себе накануне наметил (это он обдумывал перед сном), В. был вынужден опускаться на первую попавшуюся скамью. Его прогулка теперь чаще всего сводилась к тому, что он подолгу простаивал то перед клумбой, то перед заросшей травой ложбинкой, и, успокоенные его неподвижностью, птицы заводили прямо у его ног свои птичьи свары. Он слушал их голоса и чувствовал, как прерывисто бьется его сердце. «От этого я и умру, — умиротворенно подумал он однажды (это было в парке Монсо, как раз десятого марта), — дай бог, чтобы я умер в саду и сразу же».
Это и произошло в саду и сразу, и госпожа В. терялась в догадках, что привело его в такой час в парк Монсо, где его нашли в железном кресле около киоска. К ее скорби примешивалась горькая капля сомненья — но кому было открыться? Она надеялась, что они (его соратники по АГРЕГАМУ) заявят наконец о себе, выразят ей, пусть и в глубочайшей тайне, свое горе по поводу невосполнимой утраты, которую они понесли в лице своего президента (к тому времени Шарль уже успел стать президентом: «Но, Матильда, никому ни слова, я на тебя полагаюсь!»). Но они не подавали никаких признаков жизни. Ей было бы легче сознавать, что он ушел из жизни, выполняя секретное поручение, но эта благостная кончина поневоле ошеломила ее; малыш в парке подбежал к матери и сказал: «Вон тот господин, думаешь, спит? Смотри, какой он бледный…»
Похороны протекали по всем правилам. Многие из коллег покойного явились отдать ему последний долг, их было нетрудно узнать по тому, как они шепотом переговаривались о своих министерских делах. Они принесли довольно скромный венок, время года было очень неудачное: весна в этот раз что-то замешкалась.
Но когда уже вот-вот должна была начаться панихида, люди в черном, тяжело дыша — такой неподъемной, видно, была их ноша, — внесли и поставили у гроба огромный венок из живых цветов, которые цветут в разные времена года, — такой венок даже монарх или миллиардер не смогли бы заказать ни в одном цветочном магазине мира.
Мадам В. приподняла вуаль, скрывавшую заплаканные глаза и покрасневший нос, и прочитала на широкой прозрачной ленте словно сотканные из воздуха слова:
АГРЕГАМ СВОЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ
Слон в кресле
переводчик Е. Болашенко
Управляющие фирмой «Африкан импорт» не особенно удивились, когда, войдя в зал совещаний, обнаружили в кресле, которое обычно занимал лорд Авершем, молодого слона, который втиснулся в него с великим трудом. У лорда Авершема тоже был серый цвет лица, маленькие круглые глазки с прищуром и огромные уши. Случись такое на континенте, кто-нибудь высказался бы по этому поводу, но в Сити никто не проронил ни слова. Лишь самый молодой управляющий рискнул выразительно посмотреть на лорд-президента, который ответил ему холодным взглядом, словно говоря: «Что же это вы, молодой человек, ничего в жизни не видели?» Он принял упрек к сведению. Остальные сидели, не поднимая глаз.
Приступили к повестке дня. Лорд-президент привычным жестом — он делал так уже сорок лет — положил на стол карманные часы (их носил еще его прапрадед). Поправляя левой рукой монокль, он невыразительным голосом читал предложения, над разработкой которых службы компании трудились много месяцев, но почтенные члены совета не очень-то в них разбирались. Потом снимал монокль (отчего исчезали два подбородка из трех) и, вопросительно изогнув брови, обводил взглядом стол.
Присутствующие с серьезным видом склоняли головы в знак согласия, и при этом у них вдруг появлялся тройной подбородок. Тогда лорд-президент делал знак секретарю совета, и тот начинал яростно что-то строчить. Потом он бросал взгляд на часы и переходил к следующему вопросу. Этот ритуал оставался неизменным вот уже почти полвека. Бомбежки Лондона во время второй мировой войны нарушили и изменили его не больше, чем «инцидент 11 ноября 1918 года». Тогда какой-то секретарь из лучших побуждений позволил себе открыть дверь зала совета и объявить дрожащим от волнения голосом: «Господа, подписано перемирие!» Тогдашний лорд-президент отрезал: «Это не входит в повестку дня». И на этот раз три пункта повестки дня прошли как всегда. Но когда лорд-президент спросил одобрения присутствующих по четвертому вопросу, лжелорд Авершем позволил себе зареветь. «У Вас есть возражения, уважаемый коллега?» — тихо спросил президент, не глядя на возмутителя спокойствия. Воцарилось молчание, нарушаемое только звуком передвигаемых кресел, — это два ближайших соседа спешили отсесть подальше от провинившегося. Лорд-президент подал знак секретарю, тихо добавив: «Возражение снимается».
Перешли к следующему вопросу, и на этот раз лжелорд Авершем ограничился тем, что потряс своими мощными ушами, отчего у секретаря разлетелись бумаги. Президент сделал вид, что ничего не замечает. Остальные кивнули два, даже три раза, как бы желая искупить недостойное поведение коллеги проявлением своей сознательности. Секретарь дрожащей рукой собрал разбросанные бумаги, но никак не мог разложить их по порядку. «Нет возражений», — продиктовал ему президент вялым голосом и посмотрел на часы — до чего же медленно тянется сегодня время.
Когда он дочитал пятый вопрос, то сделал паузу, словно в ожидании чего-то, и все управляющие приготовились к худшему. И тут вдруг зеленое сукно, покрывавшее стол, оказалось буквально выдернутым из-под рук, которые они прилежно держали сложенными с начала заседания. Новый коллега поддел его бивнями и совсем легонько дернул своей мощной головой, но папки, подсвечники и пепельницы разлетелись по всей комнате. Показалась столешница из красного дерева — ни один из управляющих не помнил подобного за всю свою жизнь. Если бы кто-нибудь из присутствующих вдруг разделся донага, они и то не были бы столь шокированы. На этот раз они осмелились поднять глаза и поглядеть на лорд-президента.
— Господа, — заявил тот, откашлявшись, боюсь, настало время применить параграф четыре статьи семь наших правил внутреннего распорядка, а именно: исключение члена совета посредством прямого голосования путем поднятия рук в случае, если «дальнейшая работа члена совета становится невозможной вследствие явной обструкции». Господа, я жду вашего решения.
Шестеро членов совета (те, кто сидел вдалеке от лжелорда Авершема) подняли руки, но шесть ближайших его соседей ни рук, ни глаз не поднимали. Голос президента не засчитывался. Таким образом, принятие решения казалось невозможным, но вдруг все увидели с изумлением, как их незваный коллега поднял хобот вверх. Затем молодой слон с большим достоинством встал, направился к выходу, не обращая внимания на отчаянный скрип паркета, толкнул резную дверь четырнадцатого века, входящую в перечень королевского имущества (так что она разлетелась на куски), и скрылся из виду.
Президент наклонился к секретарю:
— Будьте любезны, свяжитесь с квартирой Авершема. Секретарь застал там дворецкого и спросил у него, в Лондоне ли его хозяин и не случилось ли с ним чего-нибудь.
— Прошу прощения, милорд, — ответил слуга. — Я должен был предупредить вашу честь, но, к стыду своему, вынужден признаться, что забыл это сделать. Лорд Авершем сегодня не сможет присутствовать на заседании совета: позавчера он уехал в Кению охотиться на слонов.
Лже-Рюттельбах
переводчик Н. Мавлевич
В то самое мгновение, когда профессор Карл-Вильгельм Рюттельбах методично, палец за пальцем, высвободив из перчатки правую руку — массивный перстень на мизинце все-таки растянул тонкую серую ткань! — и бережно, словно страницы книги, отвернув полу шубы, затем редингота и наконец край теплого жилета, опускал эту оголенную и сразу озябшую на холоде руку в карман брюк, — в это самое мгновение ударили колокола на соборе; башенные часы, каждый час оглашавшие своим звоном Людвиг-Галленгайм, пробили шесть. Профессор недоуменно поморщился. Нахмуренный взор его обратился к башне, вокруг которой металось потревоженное медным гулом воронье; подобным взором он обычно, не прибегая к словам, испепелял на месте дерзкого студента, позволившего себе, к примеру, кощунственно чихнуть во время его лекции. «Как! Уже шесть часов?..» Так и не достав ключей со дна одного из своих глубочайших карманов (а именно правого, так как в левом покоился носовой платок), он прямо тут же, на морозе, решительно и быстро принялся расстегивать пуговицы на всех вышеперечисленных предметах одежды, пока его рука, опять-таки правая, не проникла в жилетный карман (левый, так как в правом хранились монеты достоинством ниже полпфеннига) и не извлекла из него тяжелые золотые часы — наследство от деда, старого врача, и в далеком детстве — предмет зависти профессора. Крышка футляра отскочила, повинуясь его пальцам, как когда-то дедовским, и профессор воззрился на вертикальную линию, которую образовывали стрелки, хотя строгость ее нарушалась украшавшими их завитушками. «Шесть часов», — проговорил он снова и, не зная, где еще искать виновных, удовольствовался тем, что укоризненно покачал головой и поцокал языком: ц-ц-ц! — выказывая таким образом неодобрение эпохе, всему мирозданию и самому господу богу, которого призывал в свидетели разлада в его творении. Ибо каждый день в течение вот уже семнадцати лет звон соборных колоколов, приглушенный двойной плюшевой занавеской табачного цвета, которую вывешивали в прихожей ежегодно в первых числах ноября (а именно второго числа), настигал профессора К.-В. Рюттельбаха между седьмой и тринадцатой ступеньками внутренней лестницы его дома, по которой он поднимался величавой поступью монарха-подагрика. Эти шесть медленных, как шаги профессора, ударов, доносившихся с улицы, с холода, были частицей промозглого, гулкого и голого зимнего мира, от которого он, завершив дневные труды, запирался на двойной замок, — поднимаясь по ступеням, он все еще держал в руке тяжелую связку из четырнадцати ключей, открывавших доступ во все уголки его владений, от подвала до чердака. Это было царство ковров, темной мебели и матовых стекол; двойные рамы уже не впускали сюда ежечасный звон колоколов, а двойные шторы не выпускали отсюда тяжелый дух старых книг, крепкого табака, восковой мастики и тушеной капусты, который профессор Рюттельбах вдыхал каждый вечер, закрыв глаза от наслаждения, ибо для него это был запах счастья. Не успевали смолкнуть шесть ударов башенных курантов, как профессора приветствовал родной мелодичный бой стенных часов в кабинете; вслед за этим кот, спавший, свернувшись клубком, у камина, в кресле с протертыми подлокотниками, открывал глаза, зябко потягивался и, сделав на негнущихся лапах несколько шагов — не сходя, однако, с ковра — навстречу черным ботинкам и жестким брюкам, терся о них, недовольно мяукал и снисходительно подставлял выгнутую спину небрежно гладившей его руке. «Ну что, — спрашивал его вполголоса профессор, — что у нас новенького?» Хотя все вокруг ясно говорило, что ничего, благодарение Богу, не случилось и что целый день, до самого возвращения владыки, ровное дыхание кота, потрескивание дров в камине и тиканье часов охраняли теплый домашний уют. Профессор подходил к письменному столу и так резко швырял на него портфель, словно хотел отыграться за то, что столько времени в университете вынужден был держаться степенно и величественно, или доказать коту и старой Урсуле, ловившей у себя на кухне каждый звук, что он мужчина, единственный мужчина и хозяин в доме. С неожиданной для него поспешностью он извлекал книги и тетради из утробы толстой кожаной твари, быстро складывал их стопкой и прятал выпотрошенные останки в ящик стола. Вечером, после ужина, он зажжет лампу с зеленым стеклянным абажуром, которую помнит с детства: ее отсветы скользили по ермолке, гладкому лбу и холеным рукам его отца, судьи, когда тот готовился к предстоящему на другой день заседанию. При скудном свете той же лампы, в той же позе и так же вздыхая, готовился теперь он сам к своим лекциям, вот только некому было сидеть с ним рядом в кресле с подголовником, молча шевеля спицами и обращая на него невозмутимый взгляд поверх очков после каждого его вздоха. Его матушка… Не было вечера, чтобы вид этого кресла не наводил его на мысль о матери, которая когда-то восседала в нем, выпрямив спину, с высокомерным и замкнутым выражением лица, — с тем же выражением и так же прямо лежала она в гробу. Отца же мстительная память рисовала ему лишь таким, каким он стал после смерти матери: безвольным, жалким стариком со слезящимися глазами; он помнил еще скандальные похождения, которыми отец опозорил себя на старости лет, и его смерть от сердечного приступа. Рюттельбах никогда не думал о старом судье, но, сам того не сознавая, воскрешал отца своим сходством с ним и восстанавливал его репутацию подчеркнутой респектабельностью походки и манер. Вот и теперь, когда, разложив книги по местам, профессор проходил перед зеркалом, отражавшим его в полный рост, в мутном стекле на миг ожил судья: тот же солидный животик, та же бородка, те же очки и те же ни на йоту не изменившиеся вещи вокруг. Однако профессор никогда не останавливался перед зеркалом; заученными, отработанными движениями, подобно разоблачающемуся священнику, он снимал шубу, затем редингот. На низком столике у камина Урсула всегда заранее раскладывала домашний халат из малинового бархата, ермолку с кисточкой, набитую трубку, газету, а рядом на полу выставляла шлепанцы. Сама она неизменно появлялась только в тот момент, когда хозяин, успев завязать пояс халата и разжечь длинную фарфоровую трубку, откидывался на спинку старого кресла.