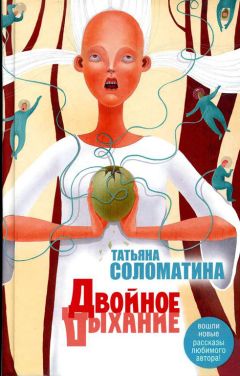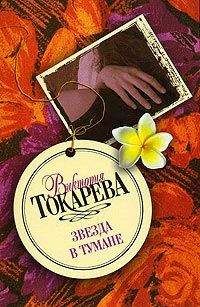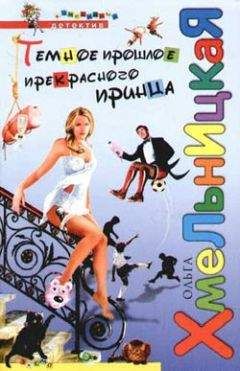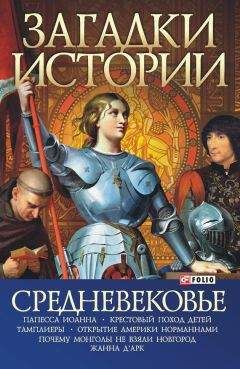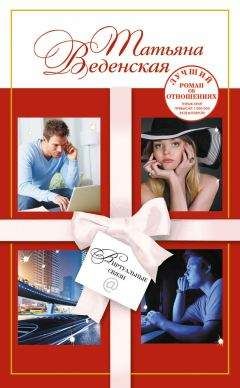Татьяна Соломатина - Двойное дыхание (сборник)
– Только бы не за мусульманина! – вставила мама Леночка.
– Какой замуж, идиотки?! Она всего десять дней назад родилась. И у неё ещё нет имени. Женя, я считала тебя ответственным взрослым мужчиной. Ну скажи своё мужское слово! Ты у нас всё единственнее и единственнее, – ехидно завершила Анна.
– Помните ли вы, как звали нашу бабушку? – спросил Женька.
– Конечно, помним. К тому же все документы только-только на покойницу оформляла… – отозвалась тётка Анна и хлопнула себя ладонью по лбу.
– Я помню! Я помню, как её звали! Нашу бабушку звали Анной! – вдруг внезапно бойко выпалила мама Леночка. – Только не кажется ли вам, что этого имени в нашей семье слишком?
– Мы тебе не персонажи романов, мы – живые люди. Не запутаемся. Ну? – посмотрела Анна на Женьку, уперев руки в бока.
– Нарекаем младенца Иванову – Анной! – примирительно заверил тётку Женька. – Если, конечно, Маша не против.
– Очень даже за. Нормальное имя. Хочешь – Аня, а хочешь – Энн. На украинской мове вот только страшно звучит – Ганна. А по-русски очень даже ничего. Анна. Красивое имя.
– А главное, редкое, – захихикала мама Леночка.
– Цыть! Решено! Крестить будем дома. Тех, кто без яиц, через алтарь не носят, а воды у нас – хоть залейся. Попа привезу.
– Может, не надо? – осторожно спросила Маша. – Вырастет, сама решит.
– Ой, а кто же ей мешает решать-то, когда вырастет? А лишним и вредным крещение не будет.
– Ключи, – усмехнулся Женька.
– Что?
– Ключи от форта Баярд. Пусть будут.
Тётка Анна прослезилась. Спустя неделю она притащила в дом попа, с которым после щедро оплаченного обряда нехило вмазала и потребовала объяснить, есть ли жизнь после смерти. Тот благостным красивым баритоном что-то нёс о милости Господней и о всепрощении, чем творение Божье Анну Романову совершенно не удовлетворил. Она требовала как минимум рабочих чертежей Рая и Ада, причём сработанных в графическом редакторе для пущей наглядности.
– Ну вот, превратили молитву в фарс, – надулась Машка. – Крестить надо в церкви.
– Машка, да не будь ты ещё глупее тёти Ани. Какая разница, где и как? Да хоть по всем церквам по очереди её носи, вреда не будет. Перечитай «Простодушного»[98], там есть хороший фрагмент именно о крещении.
Тётка Анна втихаря от всех написала завещание, где всё своё движимое и недвижимое имущество оставляла Анне Евгеньевне Ивановой. Больше никому ничего не оставляла. В случае смерти Анны Романовой до достижения наследником совершеннолетия опекуном назначался Евгений Иванович Иванов. Случись и с ним, тьфу-тьфу-тьфу, что-нибудь – Мария Сергеевна Иванова. О бумаге знала лишь мама Леночка, потому что совсем уж никому не сказать тётка Анна не могла. Но она взяла с подруги слово хранить молчание. Да и это было лишним, потому что из Леночкиной головы очень быстро выветривалось всё, что не имело непосредственного отношения к текущему переводу с человеческого на умозрительный и обратно.
Анечка подрастала на редкость красивым и здоровым ребёнком. Ничего необычного в ней не наблюдалось. Она была правшой, исключительной памятью не обладала и не тыкала в ужасе пальчиком в сторону кастрюли с горячим рассольником, которая через пять минут сверзится с плиты. Мария Сергеевна и Евгений Иванович любили друг друга. И до сих пор тяжело переносили даже недолгие расставания. Особенно были мучительны Машкины командировки и его ночные дежурства.
* * *– Простите, господа, что был вынужден вызвать вас в столь неурочный час. – Женька на мгновение почувствовал себя персонажем пьесы Гоголя.
В ординаторской его ждали хмурые дядьки – постарше и помоложе, в штатском и по форме. Они некоторое время возмущались, мол, зачем их оторвали от дел борьбы с особо важной преступностью и каким боком они здесь вообще нужны. Терпения и смирения Евгению Ивановичу было не занимать, потому он дал представителям закона высказаться, а затем мягко и уважительно, но настойчиво попросил зафиксировать факт обращения в приёмный покой родильного дома гражданки Маргариты Вересовой, в сопровождении супруга Алексея Вересова, с запущенным поперечным положением мёртвого плода, возникшего в результате родов на дому в присутствии лиц, не имеющих лицензии на частную медицинскую практику. Мужики принялись было спорить, но, оценив по достоинству некоторую даже приятно-просительную вежливость, обычно нехарактерную для этой белохалатной касты, а также презентованный коллекционный коньяк, смягчились и некую бумажку с печатями и подписями ответственному дежурному врачу Иванову выдали.
– Только никакой силы эта бумаженция не имеет. Максимум, что из неё можно извлечь, – это сомнительное «неумышленное нанесение вреда». Да и то, самому себе. У нас в стране, Евгений Иванович, даже рождённые дети – что-то на манер домашних животных, хочешь – бей их, хочешь – не корми, и никто тебя прав родительских лишать не будет. Всем плевать. Менты, простите, тут бессильны, хотите верьте, хотите нет. Максимум, что мы можем сделать, – это внушение с пристрастием. Ну, понимаете… Да только после такого внушения они дома вообще как звери себя ведут, эти мамаши и папаши так называемые. Сколько их, бездомных, с пропиской и сирот при живых родителях. И что мы можем? Ну, заберём, в приёмник-распределитель отдадим. Оттуда – снова в отчий, прости господи, дом. И снова на улицу, вокзалы-переходы. А тут – нерождённый. Так что, Евгений Иванович, до этого самого места, которым ты по роду службы занимаешься, тебе эта наша бумажка.
– Пусть будет. Спасибо, мужики.
– И тебе спасибо. А то вечно: «менты-сволочи». Доброе слово и менту приятно. Бывай. Вызывай, если что.
Женька вклеил бумагу в историю родов. Она же в родзале, хоть история жизни и смерти, хоть болезни – всё равно под грифом «История родов». После продиктовал интерну запись осмотра, протокол операции и отправил переписывать в операционный журнал. Он вышел в необратимо яркое послерассветное утро и набрал мобильный жены:
– Не спишь?
– Ты же знаешь, зачем спрашиваешь? Я никогда не сплю, если ты дежуришь. Это сильнее меня.
– Строчишь очередной шедевр?
– Если будешь издеваться, я от тебя уйду.
– Ладно. Только далеко не уходи. Я просто так звоню, узнать, как у тебя дела.
– Дела у меня хорошо, я строчу очередной шедевр, как ты изволил выразиться, и если буду уходить, то недалеко.
– Куришь небось как паровоз на голодный желудок?
– Женька, ты балбес. Что у тебя случилось?
– Я одной силой обаятельного смирения выжал из ментов нужную мне бумажку с печатью и подписями, представляешь? Нормальные парни, кстати. Остальное дома расскажу.
– Да уж, приходи скорее. Ты помнишь, что сегодня пятница?
– И мы будем пить. Помню-помню. У нас с друзьями есть традиция, плюс-минус раз в неделю мы собираемся у Ивановых и пьём с видом на субботу, как самые что ни на есть люмпен-пролетарии. Плюс-минус пятьдесят два раза в год. Ужас!
– Хочешь, сегодня отменим всё это к чёртовой матери?
– Нет, не хочу. Не хочу нарушать хорошую традицию. Всё, малыш, целую.
– И я тебя.
Он нажал отбой.
– Другая бы за десять лет уже научилась преспокойно давать храпака в одиночестве. – Ну как же, чтобы Лось не выскочила за ним. Почему им всем приятнее курить в компании? Сакральное русское действие «перекур». Тётка Анна очень удивлялась тому, как таджики работают. Начали – и работают. Отсюда и до заката. Без перекуров. Как они только в живых-то остаются без устрашающе регулярных получасовых посиделок на бревне?
– Поэтому, Людка, она и не другая. Ты сегодня будешь у нас?
– А как же.
– Как всегда одна?
– Такая у меня, видимо, судьба.
– Дура ты, Людка.
– Дура. Только ты, Жень, никому не говори. Всё равно не поверят.
Людмила Николаевна Лось вовсе не была дурой. Она была умной. Грамотной, дотошной, настырной. Временами даже упёртой. Упёртой, как лось. Нет, это не глупая шутка, а самая обыкновенная правда. Правда не бывает умной или глупой. А ещё у правды нет ручек, ножек и чувства юмора. Поэтому правда не шутит.
И Людмила Николаевна Лось действительно носила такие имя, отчество и фамилию. Именно так было написано в её паспорте. По иронии судьбы. По мужу. Он и был той самой иронией судьбы. Точнее – кривой усмешкой. Людка была высокой синеглазой фигуристой шатенкой. А он… Росточком не вышел, ручки и ножки были похожи на палочки богомола, а мордочка – не то на печёное яблочко, не то на мартышкину задницу, в зависимости от того, благостен он был или зол.
А он почти всё время был зол. После того как потерял работу из-за «интриганов», «завистников» и «прочей нечисти», коей во множестве в обычных ЖЭКах, где он и трудился до увольнения всего лишь скромным инженером-электриком. В тоске по несовершенству мира и в обиде на всех и вся он возлёг на диван, да так и лежал в расстроенных чувствах уже пару лет, периодически вставая, чтобы посетить туалет, холодильник и свою маму, люто ненавидевшую Людку неизвестно почему. Свекрови, что правда, хватало ума отговаривать сына от развода с Людмилой Лось. Потому что в чей тогда туалет и к чьему холодильнику будет бродить её сын? Нет уж. Пусть Людка, как прежде, заботится о её сорокалетнем неразумном отроке и об отвратительно воспитанной внучке-подростке, до безумия похожей на гадкую Людку. И о ней самой, о маме мужа. Потому что именно Людка раз в неделю заруливала к ней на стареньком разваленном BMW, чтобы завезти продукты, лекарства и дать денег.