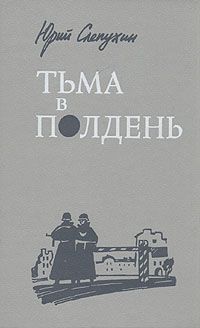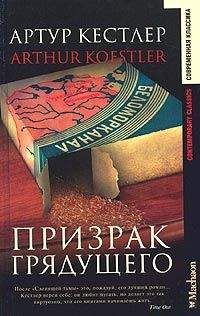Артур Кестлер - Воры в ночи. Хроника одного эксперимента
Кусая ногти и подавляя тошноту, она выбралась из ниши, поднялась в верхнее помещение, поставила огарок на место и, помогая себе локтями, выползла из отверстия. Саломея терпеливо дожидалась у входа, но вместо свежего ночного воздуха, который Дина так жаждала вдохнуть, ее снова встретило отвратительное дыхание хамсина.
Губы ее тряслись, когда она села на лошадь и стала спускаться по крутой тропинке с холма. Луна скрылась, холмы стояли темной громадой. Снова проезжать через вади было страшно, но другой дороги домой не было. Если бы Джозеф или Реувен оказались сейчас рядом! Но они были далеко от нее, они спали в своих постелях и не знали, что с ней происходит. Она прочла молитву, не успев даже устыдиться своего порыва. На некотором расстоянии возвышались два почти симметричных круглых бугра. Зад гиганта — назвал их как-то Моше. Тогда она посмеялась, но сейчас отчетливо увидела лежащего на животе гиганта с поднятым к небу в кощунственной издевке задом.
Она добралась до вади. Дорога вначале была гладкой. Она вонзила каблуки в бока измученной лошади, так что та пустилась нервным галопом. Но вскоре начался узкий забитый камнями отрезок, где лошадь могла двигаться только шагом, и за одним из поворотов Дина увидела араба с зияющей щелью вместо передних зубов, стоящего посреди прохода. Но на этот вместе с ним поджидали ее еще двое.
11Закончив в Хайфе все дела, Джозеф утром поехал автобусом в Тель-Авив. Большую часть трехчасового путешествия он проспал. Дорога шла через апельсиновые и лимонные рощи Самарии, прибрежная полоса которой принадлежала евреям, а параллельный отрезок земли дальше в глубь страны был арабским. Каждый раз, когда Джозеф, проснувшись, выглядывал в окно, ему виделся пейзаж, будто незащищенный фланг армии… Когда автобус добрался до Тель-Авива, хамсин достиг высшей точки.
Оказываясь в Тель-Авиве, Джозеф разрывался между нежностью к единственному чисто еврейскому городу в мире с лирическим названием Холм Весны и отвращением к тому, что сделало с этим городом его 150-тысячное население. Это было неистовое, трогательное, сводящее с ума, место; оно набрасывалось на тебя, хватало и крутило, как в водовороте, а через несколько дней выбрасывало, обессиленного, и ты не знал, любить или ненавидеть этот город, смеяться над ним или презирать его.
Вся эта история началась при жизни прошлого поколения, когда несколько старых еврейских семейств из Яффы решили выстроить предместье «по европейскому образцу». Они покинули арабский порт с лабиринтами базаров, экзотическими запахами и ножом из-за угла и стали строить на желтом песке средиземноморских дюн город своей мечты: точную копию еврейских предместий Варшавы, Кракова или Лодзи. Главная улица, названная в честь доктора Герцля, представляла собой два ряда безобразных зданий, похожих на сиротские дома или полицейские казармы и покрашенных розовой, зеленой или желтой штукатуркой. После первого же дождя такой дом становился похож на лицо переболевшего оспой. Во множестве убогих лавчонок торговали в основном лимонадом, пуговицами и клейкой бумагой от мух.
С началом сионистской колонизации, в первой половине двадцатых годов, город стал все больше распространяться вдоль побережья. Он рос скачками с каждой новой волной иммиграции, и приливы асфальта и бетона наступали на дюны. Не было ни времени, ни желания планировать строительство. Город рос как сорная трава — бурно и беспорядочно. Каждый новоприбывший с капиталом строил дом по собственному вкусу, и горе было муниципальным властям, если им приходило в голову в это вмешаться. Мы же на нашей Обетованной земле! В течение, примерно, десятилетия, пока среди иммигрантов преобладали выходцы из Восточной Европы, источником вдохновения для строителей оставался каменный муравейник польского местечка. «Холм весны» превратился в скопище отштукатуренных домов с ржавыми перилами узкогрудых балконов, с приделанными кое-где для разнообразия коническими колоннами и римскими портиками.
Но стиль жизни Тель-Авива в те времена определяли не те, для кого дома строились, а те, кто их строил. Первый еврейский город был по своему характеру халуцианским, в нем преобладали рабочие обоего пола в возрасте до двадцати лет или немногим больше. Улицы принадлежали им. В моде были рубашки цвета хаки, шорты и темные очки. Галстук, пренебрежительно называемый селедкой, попадался редко. По вечерам, когда слепящий блеск дня сменялся прохладным ветром с моря, молодые люди гуляли, взявшись за руки, по теплому асфальту новых улиц, утыкавшихся в дюны. По ночам они жгли костры и отплясывали хору на пляже. Иногда вытаскивали из постели представительного мэра, господина Дизенгофа, приводили его на пляж и заставляли плясать вместе с ними. Это я были работящие, веселые и сентиментальные ребята. Их несла волна энтузиазма, и эта волна не спадала. Только к вопросу об употреблении языка иврит они относились болезненно. Они отчаянно воевали против всякого иного языка и победили в этой войне. В автобусах, ресторанах, на афишных столбах были расклеены лозунги: «Евреи говорят на иврите». Заграничных ораторов, пытавшихся выступать на собраниях по-польски, по-немецки или на идиш, стаскивали с трибуны, а иногда и избивали. В те времена было мало кафе и много рабочих клубов. Там кормили в кредит и продукты продавали тоже в кредит. Также в кредит хозяева сдавали комнаты в домах, построенных в кредит. А город, вместо того, чтобы уйти в песок, на котором он строился, рос и набирал силу.
Да, десять лет назад было старое доброе время! Пока Джозеф проходил в шумной толпе по улице Элиэзера Бен-Иехуды, из двух чувств, борющихся в его груда, отвращение взяло верх. Эта пестрая, дешевая левантийская ярмарка не тот халуцианский город, который он знал и любил. На каждом шагу из ярко разукрашенных кафе вырывались усиленные микрофонами голоса эстрадных певцов родом из бухарестского предместья и стареющих артистов из Салоник, исполняющих на иврите американские имитации кубинских серенад. Косметические салоны и антикварные магазины в резком свете солнца казались порождением полуденного сна обожравшегося гурмана. Это был новейший квартал города, построенный иммигрантами, недавно приехавшими из Германии и стран Восточной Европы. Былая идиллия отштукатуренных зданий вытеснялась агрессивным кубизмом функционального стиля. Дома, как военная флотилия из бетона, с парапетами террас, выступающими, словно корабельные рубки, казалось, приготовились стрелять друг в друга. Не видно было ни горизонта, ни перспективы, глаз устало метался по прерывистым контурам зданий и не находил покоя.
На прошлой неделе, когда Джозеф столкнулся с Метьюсом, тот пригласил его на обед в приморское кафе «Шампиньон». Проходя по переполненной посетителями террасе, где оркестр исполнял «Веселую вдову», Джозеф видел, что люди оборачиваются и смотрят на него. Он был здесь единственным человеком в одежде киббуцника. Внезапно он заскучал по Башне Эзры, как будто покинул киббуц не два дня назад, давным-давно.
Метьюс сидел за столиком у самых перил и о чем-то спорил с официантом. Увидев его явно нееврейское лицо с тяжелой челюстью и по-боксерски покалеченным носом, Джозеф ощутил внезапное облегчение.
— Послушайте, — говорил официанту Метьюс, — я заказал бутылку шабли. А это сироп.
Официант в белом пиджаке со слишком короткими рукавами, пожал плечами:
— Простите, но на бутылке написано «шабли».
— Это дрянь. Попробуйте.
— Но посмотрите же на надпись. Может, ему положено быть сладким? Я не знаю. Я прежде был учителем в Ковно, в Литве.
— Да вы попробуйте.
— Но я не пью. У меня, извините, язва.
— Тогда уберите это и принесите пива.
— Пива нет, только вино.
— Так позовите заведующего.
— Заведующий занят.
— Послушайте, — сказал Метьюс, — а что если я разобью бутылку о вашу голову?
Поколебавшись, официант унес бутылку и через минуту вернулся с двумя кружками холодного как лед пива, улыбаясь всем своим помятым лицом.
— Ну, как вам нравится Тель-Авив? — спросил Джозеф.
Метьюс с удовольствием сделал большой глоток и поставил кружку на стол.
— Превосходный город с превосходным народом, если бы только можно было раз в день побить кому-нибудь морду.
— Особенно хороши официанты.
— Может, бедняга действительно был учителем в Литве и нажил язву в концлагере?
Джозеф оглянулся по сторонам и вздохнул. Хамсин был отпечатан на лицах, как судорога. Пышнотелые женщины были одеты дорого и безвкусно. Мужчины с опущенными плечами и впалой грудью уныло размышляли о своих язвах. Каждая пара, казалось, продолжает давно начатую перебранку под покровом звуков из «Веселой вдовы».
— Не удивительно, что нас не любят.
— В таком случае вы — настоящий патриот. Со времен пророков ненависть к своему народу является еврейской формой патриотизма.