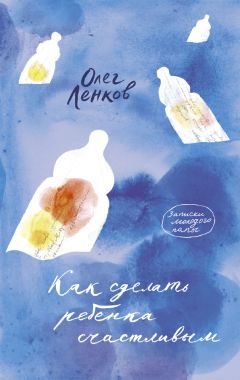Жозе Сарамаго - Слепота
И четверо добровольцев пустились в путь ползком, две женщины посредине, двое мужчин по бокам, так уж само собой вышло, а вовсе не из рыцарской учтивости или стремления по-джентльменски закрыть собой даму, тем более что неизвестно, под каким углом прилетит пуля, если слепой счетовод решит выпустить ее. А может, и вообще ничего не произойдет, потому что старика с черной повязкой осенила мысль, причем более удачная, чем все предшествующие, и заключавшаяся в том, что все остальные будут говорить как можно громче, а еще лучше — кричать, тем более что поводов для этого сколько угодно, и шумом этим перекроют и заглушат все звуки, которые неизбежно будут сопровождать вылазку, и возвращение, и все то, что может случиться между тем и этим, а что именно, то один бог знает. В считанные минуты спасатели достигли цели и поняли это еще прежде, чем наткнулись на тела своих товарищей, ибо кровь, по которой они ползли, сыграла роль вестника, явившегося к ним и молвившего: Я была жизнью, за мной уже ничего нет, и: Боже мой, подумала жена доктора, сколько крови, и это была чистая правда, крови натекла целая лужа, руки и одежда липли к полу так, словно и шашки паркета, и каменные плиты вымазали птичьим клеем. Она приподнялась на локтях и двинулась дальше, и остальные сделали то же. Нащупали наконец распростертые тела. Оставшиеся позади продолжали шуметь как можно громче, напоминая теперь плакальщиц, доведших себя до исступления. Жена доктора и старик с черной повязкой вцепились в щиколотки одного из лежавших, доктор и вторая женщина одновременно ухватились за руку и за ногу другого, и теперь следовало поскорей вытащить их и выбраться самим с линии огня. А это не так просто, потому что надо приподняться, стать на четвереньки, ибо таков единственный способ применить к делу жалкие остатки сил. Раздался выстрел, но на этот раз пуля никого не задела, а страх, как молния, пронизавший все тело, не заставил их вскочить и убежать, а, напротив, придал малую толику недостающей энергии. Через мгновение они были уже в безопасности, у стены рядом с дверью палаты, и необыкновенно замысловатую траекторию должна была бы вычертить пуля, чтобы попасть в них, а слепой счетовод едва ли был сведущ в баллистике, хотя бы в самых ее началах. Попытались поднять тела, но ничего из этого не вышло. Оставалось только тащить волоком их и дальше, и вместе с ними по полу, словно из-под скобеля, тянулись полосы крови полузасохшей и совсем свежей, еще струившейся из ран. Кто это, спросили ожидавшие. Откуда нам знать, мы ведь не видим, отвечал старик с черной повязкой. Здесь больше нельзя оставаться, сказал кто-то, если они пойдут на вылазку, дело не ограничится двумя ранеными. Или убитыми, сказал доктор, пульс у них, по крайней мере, прощупать не могу. Потащили тела по коридору, уподобясь отступающему войску, в вестибюле остановились, и посторонний подумал бы, что решили стать там лагерем, однако на самом деле причина была иная и крылась она в том, что просто иссякли последние силы, здесь останусь, больше не могу. Сейчас, кстати, самое время отметить такое удивительное обстоятельство, что бандиты, прежде такие предприимчивые и настырные, с такой охотой и легкостью применявшие, чуть что, грубую силу, сейчас перешли в глухую и пассивную оборону, сидят, забившись в свою нору, и отстреливаются наугад, то есть не решаются схватиться с врагом в чистом поле, лицом к лицу, глаза в глаза. Обстоятельству этому, как и всему на свете, имеется свое объяснение, состоит же оно в том, что в третьей палате после гибели главаря резко упала дисциплина, к нулю свелась субординация, и сильно ошибся слепой счетовод, решив, что вместе с пистолетом у него теперь в кармане и власть, как бы не так, все получается как раз наоборот, и каждая выпущенная им пуля летит, фигурально выражаясь, в него же, ибо с каждым истраченным патроном тратится и частица этой самой власти, и мы еще увидим, что произойдет, когда боеприпасы будут израсходованы полностью. И в соответствии с тем, что не всяк монах, на ком клобук, то и не всякого, у кого скипетр, можно признать королем, и пора бы уж назубок заучить эту истину. И хоть королевский скипетр ухватил сейчас слепой счетовод, следует сказать, что королем, пусть и мертвым, и погребенным, причем плохо, неглубоко, всего на три пяди под полом своей же палаты, продолжают считать прежнего вожака, и присутствие его, хоть бы в виде смрада, по-прежнему весьма ощутимо. А между тем на небо выплыла луна. Снаружи через главный вход проникает и разливается по вестибюлю неясное поначалу, но с каждым минутой набирающее силу сияние, и лежащие на полу тела, мертвые и пока еще нет, мало-помалу обретают объем и абрис, очертания и черты, и весь ужас кошмара, тяжкого и безымянного, и тогда жена доктора осознала, что нет больше, а может, и раньше не было, ни малейшего смысла прикидываться слепой, ибо невооруженным глазом видно, что спастись никому не удастся, а слепота, помимо прочего, это еще и пребывание в мире, где исчезла надежда. Впрочем, она может сказать, кто погиб. Вот это — аптекарь, а это — тот, кто сказал, что, мол, положат нас, и оба до известной степени оказались правы, и излишне спрашивать меня, как я узнала, кто они, ибо ответ мой прост: Я вижу. Из тех, кто был там, одни это уже знали и молчали, другие с давних пор терзались сомнениями, которые теперь, стало быть, подтвердились, но совершенно неожиданным оказалось отчуждение третьих, можно себе представить, какое бы в другое время тут началось смятение, какие посыпались бы вопросы, как развязались бы языки: Почему тебе одной удалось избегнуть общей участи, что за капли закапываешь ты в глаза, дай мне адрес твоего врача, выведи меня из этого узилища, хотя, если вдуматься, и не было в этом отчуждении ничего неожиданного, потому что сейчас уже все равно, в смерти все одинаково слепы. Но и вправду нельзя было дальше оставаться в таком положении, даже защититься нечем, потому что и железяки остались у двери в третью палату, а кулаками не много навоюешь. Под водительством жены доктора убитых вынесли на крыльцо и на лунном свету, под млечной белизной небесного тела, оставили их тела, белые снаружи, черные наконец-то внутри. Разойдемся все по своим палатам, сказал старик с черной повязкой, потом посмотрим, что тут можно будет предпринять. И никто не обратил внимание на то, сколь безумны эти слова. Слепцы не стали делиться по принадлежности и происхождению, встретились и познакомились по дороге, одни пошли в левое крыло, другие — в правое, и вот туда вместе пришли жена доктора и та, что сказала: Куда ты, туда и я, но не эта мысль сидела сейчас у нее в голове, а совсем противоположная, но говорить об этом она не хотела, ибо не все клятвы исполняются — когда по душевной слабости, а когда и под воздействием высшей силы, которую мы порой забываем принять в расчет.
Минул час, луна уже высоко, голод и страх отгоняют сон, и никто в палатах не спит. Но дело не только в том, что есть хочется и страшно. Еще, быть может, не улеглось возбуждение от недавнего боя, пусть и проигранного вчистую и с такими ужасными потерями, или в воздухе что-то такое, не определимое словами, но слепцов снедает беспокойство. Никто не осмеливается выйти в коридор, и внутренность каждой палаты поразительно напоминает улей, где жужжат одни трутни, есть такие поразительно неосновательные существа, как известно, мало приспособленные к соблюдению порядка, к исполнению хоть какого-никакого устава, ни в малейшей степени не задумывающиеся о будущем, хотя в отношении слепцов, людей, и без того обиженных судьбой, несправедливо было бы применять понятия трутень или паразит, ибо на чем им тут паразитировать, за счет каких рабочих пчел жить, смешно, ей-богу, и вообще поаккуратней бы надо со сравнениями, больно уж легко слетают они с языка. Впрочем, нет правила без исключения, что в очередной раз нашло себе подтверждение и здесь, в лице некой женщины, которая, чуть только успев войти к себе в палату, вторую в правом крыле, принялась рыться в своем тряпье и рылась до тех пор, пока не отыскала какой-то маленький предмет, а отыскав, зажала его в ладони, как бы для того, чтобы спрятать от посторонних глаз, давние привычки, дело известное, держатся прочно, даже когда приходит такой день и час, когда мы считаем, что их и вовсе уже нет. Но и здесь, где полагалось бы всем быть за одного, а одному за всех, видели мы, как сильные жестоко вырывают хлеб изо рта у слабых, а вот теперь увидим и эту женщину, которая пронесла сюда в сумочке зажигалку, умудрилась не потерять ее во всей этой свалке и неразберихе, и уж так она над нею дрожит, так трясется, словно это непременное условие ее выживания, и не подумает даже, не вспомнит, что, быть может, кто-то из ее товарищей по несчастью сберег последнюю сигаретку, а покурить не может, потому что, сколько ни спрашивай: Огонька не найдется, — огонька не найдется. И теперь уж никогда. Женщина вышла, не сказав ни слова, ни прощайте, ни пока, и вот проходит она пустым коридором, мимо дверей в первую палату, и никто там не заметил ее, вот пересекает вестибюль, где лунный свет очертил и расцветил стоящую на каменных плитах упаковку молока, а женщина уже в левом крыле, и опять коридор, но путь ей лежит в самую его глубину, в дальний его конец, прямо иди, не заблудишься. Да и потом, она слышит голоса, идет на их зов, не верьте, никто ее не зовет, это, так сказать, фигура речи, доносится до нее лишь гвалт и гомон в последней палате, где бандиты сладко пьют и вкусно едят по случаю победы, уж простите намеренное преувеличение, не будем забывать, что все на свете относительно, просто едят и пьют, что есть, и, конечно, всем прочим очень бы хотелось разделить с ними трапезу, но в данном случае и око не видит, и зуб неймет, между ними и пиршественным столом восемь кроватей и заряженный пистолет. Женщина стоит на коленях у двери, перегороженной этими самыми кроватями, и потихоньку подтягивает к себе одеяло с самой нижней, потом со следующей, потом с третьей, а выше ей не дотянуться, но это уже не важно, бикфордовы шнуры протянуты, остается только огонь поднести. Она еще помнит, куда покрутить колесико, чтобы пламя стало длинным, ну и вот он, маленький клинок огня, подрагивает, как острие ножниц. Она начинает сверху, пламя усердно лижет грязную ткань, и та наконец занялась, затлела, теперь среднюю, теперь нижнюю, и женщина чувствует потрескиванье и запах паленого волоса, надо бы поосторожней, она здесь затем, чтобы разжечь этот костер, а не взойти на него, он уготован другим, и слышит доносящиеся изнутри крики, и в этот миг подумала: А если у них есть вода, а если сумеют потушить, и заползла под нижнюю койку, повела зажигалкой вдоль всего матраса, вдоль и поперек, здесь и там, и очажки пламени вдруг стали расти и множиться, и сливаться воедино, превращаясь в сплошную огненную завесу, еще пронеслась по ней бесполезная струя воды, обрушилась на женщину, но поздно, ибо она теперь, чтобы веселей горело, подкинула в костерок собственное тело. Интересно, что там внутри, войти да взглянуть никто, конечно, не осмелится, но ведь зачем-то же дано человеку воображение, вот и давайте представим себе, как огонь резво скачет по койкам, с одной на другую, будто хочет полежать на всех разом, и это ему удается, а бандиты, изведя впустую и бесцельно свой скудный запас воды, теперь пытаются дотянуться до окон, вскакивают, балансируя, на спинки кроватей, до которых еще не добрался огонь, а он как раз и добрался, и они обрываются вниз, падают, а огонь за ними, и от жара уже с треском лопаются оконные стекла, и со свистом ворвавшийся в палату свежий воздух раздувает пламя, ах, да еще, конечно, звучат крики ярости и страха, вопли боли и муки, и здесь следует особо отметить, что звучат они все тише и слабей, а вот женщина с зажигалкой, например, вообще уже давно молчит.