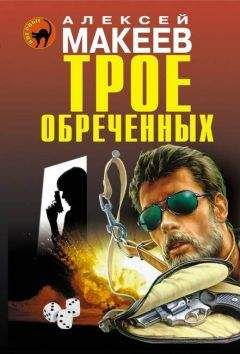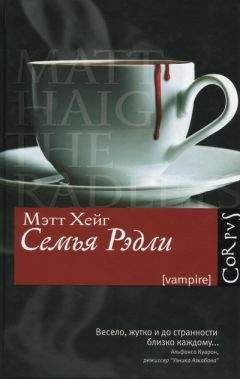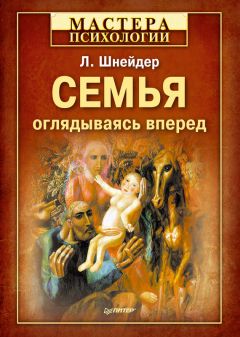Мэтт Хейг - Люди и Я
Гулливер пожал плечами. Где-то в его губах прятался намек на улыбку. Меня пугало, насколько неглубоко воля к насилию залегает под цивилизованной поверхностью человека. Поражало даже не само насилие, а то, сколько энергии тратится, чтобы его скрыть. Хомо сапиенс долго был примитивным охотником, который каждый день просыпался с мыслью, что может убивать. Просто теперь у нее появился эквивалент, и люди с утра утешают себя, что могут пойти и что-нибудь купить. Поэтому Гулливера важно было освободить наяву от того, что пока отпускало его только во сне.
— Пап, ты не в себе, да? — спросил он по дороге домой.
— Да, — сказал я. — Не совсем.
Я ждал новых вопросов, но их не последовало.
Вкус ее кожи
Я не был Эндрю. Я был ими. И мы проснулись, и воздух в спальне заполнили сгустки фиолетового. Голова хоть и не болела, но казалась очень тесной, как будто череп — это кулак, а мозг — зажатый в нем кусок мыла.
Я выключил свет, но темнота не сработала. Фиолетовый цвет остался, расширяясь и растекаясь по реальности, как пролитые чернила.
— Уходите, — попросил я кураторов. — Уходите.
Но они не ослабляли хватки. Вы. Если вы читаете это.
У вас жуткая хватка. И я терял себя. Я знал это, потому что повернулся и увидел в темноте Изабель. Она лежала спиной ко мне, и я видел ее силуэт, наполовину скрытый одеялом. Моя рука коснулась ее затылка. Я ничего к ней не чувствовал. Мы ничего к ней не чувствовали. Мы даже не видели ее как Изабель. Она была просто человеком. Как для человека корова, курица или микроб — это просто корова, курица или микроб.
Коснувшись ее голой шеи, мы произвели считывание. Это все, что было нам нужно. Она спала, и нам оставалось лишь остановить ее сердце. Это проще простого. Мы опустили руку чуть ниже и почувствовали, как сердце бьется в ребрах. Движение нашей руки слегка нарушило ее сон. Она повернулась и, не открывая глаз, шепнула:
— Я люблю тебя.
Это особенное «тебя» было обращено ко мне или ко мне-Эндрю, которым она меня считала. Именно в этот момент я сумел побороть их, стать «я», а не «мы», а при мысли, что она чудом спаслась от верной смерти, я осознал, насколько сильны мои чувства к ней.
— В чем дело?
Я не мог объяснить, поэтому ответил поцелуем. Люди целуются, когда слова достигают тупика, откуда нет выхода. Это переключение на другой язык. Наш поцелуй был актом неповиновения, а то и объявлением войны. Не трогайте нас, говорил он.
— Я люблю тебя, — сказал я Изабель и, уловив запах ее кожи, понял, что никогда никого и ничего не хотел сильнее, чем ее. Но теперь это желание пугало. И мне нужно было гнуть свою линию. — Я люблю тебя, люблю, люблю.
После этого, после неуклюжего стягивания последних тонких слоев одежды слова перешли в звуки, которыми были когда-то. Мы занимались сексом. Счастливым сплетением горячих рук и ног и еще более горячей любовью. Физическим и психологическим слиянием, порождавшим нечто вроде внутреннего свечения, биоэмоциональной фосфоресценции, которая была оглушительна в своем великолепии. Я недоумевал, почему люди так мало гордятся им, этим волшебством. Я гадал, почему, если уж им понадобились флаги, почему они не берут себе флаг с изображением сцены секса.
После я обнимал ее, а она обнимала меня, и я нежно целовал ее в лоб, слушая, как в окно бьется ветер.
Она уснула.
Я смотрел на нее в темноте. Я хотел защитить ее, оградить от опасностей. Потом я встал с постели.
Нужно было кое-что сделать.
Я остаюсь здесь.
Нельзя. У тебя дары, не созданные для этой планеты. У людей возникнут подозрения.
Тогда я хочу, чтобы меня отсоединили.
Мы не можем этого допустить.
Можете. Обязаны. К ношению даров принуждать нельзя. В этом их суть. Я не могу допустить, чтобы в мои мысли вмешивались.
Мы не вмешиваемся в твои мысли. Мы пытаемся их восстановить.
Изабель ничего не знает о доказательстве. Не знает! Просто оставьте ее в покое. Оставьте нас всех. Пожалуйста. Ничего не случится.
Тебе не нужно бессмертие? Не нужна возможность вернуться домой или посетить какое-нибудь другое место во Вселенной, кроме затерянной планеты, на которой ты сейчас находишься?
Именно.
Тебе не нужна возможность принимать другие формы? Возвращаться к своей изначальной природе?
Нет. Я хочу быть человеком. Или настолько похожим на человека, насколько это возможно.
Никто ни разу за всю нашу историю не просил оставить его без даров.
Что же, придется вам обновить эту информацию.
Ты ведь понимаешь, что это значит?
Да.
Ты застрянешь в теле, которое не умеет себя восстанавливать. Ты будешь стареть. Мучиться от болезней. Ты будешь чувствовать боль и знать, что — в отличие от остальных невежественных представителей вида, к которому ты хочешь принадлежать, — сам выбрал это страдание. Сам навлек его на себя.
Да. Я это знаю.
Хорошо. Ты приговорен к высшей мере наказания. И тот факт, что ты сам о нем попросил, не делает его менее суровым. Ты отсоединен. Даров больше нет. Теперь ты человек. Если ты скажешь, что явился с другой планеты, у тебя не будет доказательств. Люди решат, что ты сумасшедший. А нам это безразлично. Твое место займет другой.
Не надо никого присылать. Это напрасная трата ресурсов. Миссия не имеет смысла. Алло? Вы слушаете? Вы меня слышите? Алло? Алло? Алло?
Ритм жизни
В любви вся суть людей, но они этого не понимают. Ведь если бы понимали, магия исчезла бы.
Знаю только, что она пугает. Люди боятся ее и потому устраивают викторины. Чтобы переключить мысли на что-то другое.
Любовь страшит, потому что затягивает с жуткой силой, как сверхмассивная черная дыра, невидимая снаружи, а изнутри бросающая вызов всем доводам разума. Вы теряете себя, как потерял себя я в сладчайшем из уничтожений.
Она толкает вас на глупости — на поступки, которые противоречат всякой логике. Вы отказываетесь от покоя ради страданий, от вечной жизни ради смерти, от дома ради Земли.
Я проснулся в ужасном состоянии. Глаза резало от усталости. Спина затекла. Колено побаливало, а в ушах ощущался легкий звон. Шумы, которым самое место в недрах планеты, исходили из моего желудка. В целом было ощущение, что я гнию заживо.