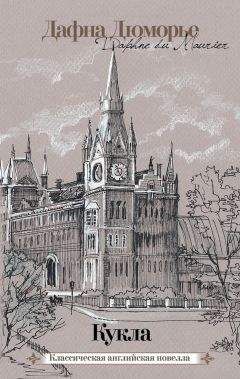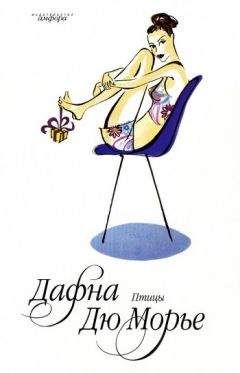Дафна дю Морье - Козел отпущения
Вся краска схлынула с лица Мари-Ноэль, и она выбежала из комнаты. Я подошел к кровати.
— Франсуаза, — начал я, но она оттолкнула меня; в глазах ее было страдание.
— Нет, — сказала она. — Нет… нет… нет…
Она снова откинулась на подушки, зарылась в них лицом, и, в тщетной попытке как-то помочь, хоть что-то сделать, я собрал осколки фарфоровых животных и унес их в гардеробную, чтобы они не попались на глаза Франсуазе, когда она посмотрит на пол. Там я механически завернул их в целлофан и бумагу, служившие оберткой огромному флакону духов, все еще стоявшему на комоде. Мари-Ноэль нигде не было видно, и, вспомнив вчерашний вечер и плетку и — еще страшнее — угрозу прыгнуть вниз, я вышел из гардеробной и, охваченный внезапным страхом, взлетел по лестнице в башенку, перескакивая через три ступеньки. Но, войдя в детскую, я с облегчением увидел, что окно закрыто, а Мари-Ноэль раздевается, аккуратно складывая свои вещи на стул.
— Что ты делаешь? — спросил я.
— Я плохо себя вела, — ответила девочка. — Разве мне не надо лечь в постель?
И я вдруг увидел мир взрослых ее глазами — его силу, отсутствие логики и понимания, мир, где, принимая это как должное, ты раздеваешься и ложишься в постель без четверти десять утра и комнату заливают солнечные лучи — через час после того, как поднялся, потому лишь, что взрослые сочли это подходящим наказанием.
— Думаю, что нет, — сказал я. — Что в этом пользы? И к тому же ты не хотела их разбить. Тебе просто не повезло.
— Но ведь в Виллар ты меня теперь не возьмешь, да? — спросила девочка.
— Почему бы и нет?
На лице Мари-Ноэль была растерянность.
— Это удовольствие, — сказала она. — Ты не заслужил удовольствие, если разбил ценную вещь.
— Ты же не хотела разбить эти фигурки, — сказал я. — Вот в чем разница. Главное, что теперь надо сделать, это попробовать их починить. Может быть, найдем в Вилларе мастерскую.
Она покачала головой:
— Сомневаюсь.
— Посмотрим, — сказал я.
— Я не упала бы, если бы не руки, — сказала Мари-Ноэль. — Я оперлась о пол возле самого столика, и у меня ослабли запястья. Я кувыркалась раньше в парке миллион раз.
— Ты выбрала неподходящее место, вот и все.
— Ага.
Она жадно всматривалась в мои глаза, словно хотела получить подтверждение какой-то невысказанной мысли, но мне нечего было ответить ей на немой вопрос, да и вообще нечего больше сказать.
— Мне снова одеться, да? — спросила она.
— Да. И спускайся вниз. Скоро десять.
Я зашел в гардеробную и взял пакет с осколками. Внизу машина уже стояла у входа, а в холле меня ждала Рене.
— Надеюсь, я вас не задержала? — сказала она.
В голосе ее звучало предвкушение победы и уверенность в себе; то, как она прошла мимо меня на террасу, спустилась по ступеням, то, как она двигалась, как, взглянув на солнечное, безоблачное небо, пожелала доброго утра Гастону, стоявшему у «рено», говорило яснее ясного о ее возбуждении и желании добиться своего. Декорации были установлены. Шел ее выход. Впереди ждал успех. А затем на террасу выбежала, догоняя нас, Мари-Ноэль в белых нитяных перчатках, с белой пластиковой сумочкой, свисавшей на цепочке с руки.
— Я еду с вами, тетя Рене, — сказала она, — но вовсе не для удовольствия. Мне надо сделать очень важные покупки.
Никогда еще не приходилось мне видеть, чтобы апломб так быстро уступал место растерянности.
— Кто тебе сказал, что ты едешь? — воскликнула Рене. — Почему ты не пошла заниматься?
Я поймал взгляд Гастона и прочел в нем такое понимание, такую тонкую оценку ситуации, что мне захотелось пожать ему руку.
— Тете Бланш удобнее заниматься со мной днем, — сказала Мари-Ноэль, — и папа рад, что я с ним еду. Да, папа? Можно, я сяду спереди, а то я укачаюсь?
В первую минуту я подумал, что Рене вернется в замок, — столь сокрушительным был удар по ее планам, столь полным провал ее надежд. Но после секундного колебания она взяла себя в руки и молча забралась на заднее сиденье.
Мне ни к чему было волноваться, найду ли я дорогу в Виллар. Как всегда, из затруднения меня вывела правда.
— Давай притворимся, — сказал я Мари-Ноэль, — будто я впервые в этих местах, а ты моя проводница.
— Давай! — воскликнула она. — Как ты хорошо это придумал!
— Чего проще?
В то время как, покинув Сен-Жиль, мы ехали по проселочным дорогам среди мерцающих под октябрьским небом золотисто-зеленых полей, я думал, как легко и радостно дети погружаются в мир фантазии; не будь у них этой способности к самообману, умению видеть вещи в ином свете, чем они есть, вряд ли им удалось бы вынести свою жизнь. Если бы я мог, не нарушая веры Мари-Ноэль в отца, раскрыть ей правду, сказать ей, кто я на самом деле, с каким жаром она отдалась бы игре и стала бы моей соучастницей, моей доброй феей, как помогала бы мне своим колдовством, подобно джинну из «Лампы Аладдина».
Вскоре мы покинули волшебный мир полей, лесов и ферм, песчаных дорог и тополей, роняющих листья, и покатили по твердому, прямому шоссе, ведущему в Виллар. Мари-Ноэль выкрикивала нараспев названия всех поворотов, единственная моя пассажирка продолжала молчать; лишь однажды, когда я резко затормозил, чтобы не налететь на идущую впереди машину, которая внезапно снизила скорость, и Рене кинуло вперед, она не удержалась и вскрикнула: «Ах!», выдав свой гнев и раздражение.
— Мы забросим тетю Рене к парикмахеру и припаркуем машину на площади Республики, — сказала Мари-Ноэль.
Я остановился перед небольшим заведением, в витрине которого красовалась женская голова, покрытая кудряшками, словно барашек перед стрижкой, и раскрыл заднюю дверцу. Рене вышла, не сказав ни слова.
— К которому часу вы будете готовы? — спросил я, но она не ответила и, не оглянувшись, вошла в парикмахерскую.
— По-моему, тетя Рене сердится, — сказала Мари-Ноэль. — Интересно почему?
— Неважно, бог с ней, — сказал я, — продолжай указывать мне дорогу, ты забыла — я здесь в первый раз.
Присутствие Рене сковывало нас, но теперь настроение мое, как и у девочки, стало праздничным. Возле ряда грузовиков мы нашли место, где поставить машину, и, позабыв предупреждение насчет блох, окунулись в рыночную толпу.
Здесь все происходило с куда меньшим размахом, чем в Ле-Мане. Не было ни крупного, ни мелкого рогатого скота, ни свиней, но временные прилавки, сгрудившиеся на тесной площади, ломились от курток, макинтошей, передников, сабо. Мы с Мари-Ноэль не спеша бродили между рядами, не в силах — что она, что я — оторвать глаз от одних и тех же вещей: носовых платков в крапинку, шарфов, фарфорового кувшина в форме собачьей головы, розовых воздушных шаров, коротких и толстых цветных карандашей — половина красная, половина синяя. Мы купили клетчатые, белые с серым, шлепанцы для Жермены, а затем, заметив, что в другом месте продают такие же туфли зеленого цвета, не постеснялись перекинуться ко второму продавцу. Не успели нам завернуть покупку и получить деньги, как нас охватило жгучее желание приобрести толстые шнурки для ботинок, для себя и для Гастона, и две губки, связанные веревкой, и, наконец, большой брусок молочно-белого мыла с выдавленной на нем русалкой верхом на дельфине.