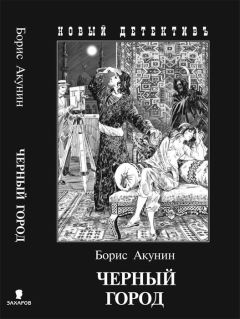Мариам Юзефовская - Разлад
Подкосил самоварный бунт. Когда доложили – не поверил. Вызвал машину, велел ехать в эту богом забытую контору. Размещалась она на отшибе. В бывшем купеческом особняке. Толстые стенные своды. Деревянная скрипучая лестница. Рывком открыл дверь. Человек десять сидело за самоваром. Чаёвничали. А времени – уже часов десять вечера.
Понимал – пора смутная. Семь раз отмерь – один отрежь. «Каждый себя нынче большим человеком стал считать. Хозяином. Да и как не посчитаешь, если тебе об этом с утра до вечера талдычат. Газеты, радио, телевизор – все хором. Доболтаются. Спохватятся, ан поздно будет». Решил держаться сдержанно и дружелюбно. Поэтому спросил без нажима. С юмором: «Меня в компанию не возьмете?» Скуластый паренек сухо пригласил:
– Присаживайтесь. Только у нас без разносолов. Вам, наверное, непривычно.
«Ясно, – подумал Можейко, – главный идеолог налицо». Послал Колю за баранками и конфетами. Сидели, гоняли чаи. Все на уровне дипломатического раута. О главном – молчок. Решил их взять на измор. Но в двенадцатом часу не выдержал. Предложил небрежно: «Ну что, по домам?» – «Нет, – покачал головой скуластый. – Мы здесь ночуем» – «И давно?» – спросил Можейко. Сам из доклада знал – уже больше недели. Тут-то и началась заварушка. Слушал молча. Слова не проронил. Понимал, наболело, должны высказаться.
Еще года три тому назад сконструировали машину для переработки картофеля. Сделали три опытных образца, испытали. А до серии дело так и не дошло. «И не потому что не нужна, – резал правду-матку скуластый, – сами знаете, у нас больше пропадает, чем на стол попадает. И не потому, что в эксплуатации себя не показала. Вот отзывы», – он потряс перед Можейко кипой сколотых бумажек.
«Куда только ни обращались. К вам в том числе», – загудели, заговорили все разом. «Погодите, – властно остановил скуластый, – к вам тоже, – подтвердил многозначительно. С запальчивостью добавил: – Но ведь это не первый случай. Что с сепаратором? С разделочной машиной для мясокомбината? Почему все кончается бумагой? Почему нет до сих пор опытного завода?» Можейко слушал, не прерывая. Со стороны казалось – совершенно спокоен. Но веко левого глаза нервически подергивалось. «Думают, что в моих руках все вожжи. Все от меня зависит. Как им объяснить, что так же бесправен, как они. В тех же путах. Ни площадей, ни фондов – ничего нет и не предвидится. Только программы плодим».
Скуластый хмуро подытожил:
– Мы против закрытия нашей организации. В том, что оказались не у дел – ваша вина.
«Уж больно смел, – подумал Можейко, – интересно, кто за ним стоит. Не может быть, чтобы был без прикрытия. – Он внимательно посмотрел на скуластого. В его злые, ненавидящие глаза. – Хотя черт его знает? Возможно, из тех, кто любит головой стенку пробивать. Ишь как распалился, – почему-то подумал о зяте, Илье, – тоже из этих. Не перевелись. Столько лет травили, а только слабину дали – тотчас из всех щелей повылазили. Видно, это наследственное, в крови. А ведь если его прижать как следует, трижды бы отрекся. Трижды. – Скуластый был узкоплеч, сутуловат. Можейко цепко посмотрел на тонкие кисти рук, слабую шею. – Боец? Вождь. А эти как стадо. Куда вожак, туда и они. Да и я хорош. Такого маху дал». Не глядя ни на кого, хмуро обронил:
– Разберусь. Но и это, – кивнул на раскладушку, покрытую сиротским тощим одеяльцем, – тоже не метод.
Но разобраться не успел. Утром следующего дня был вызван на ковер. Оказалось известно не только о посещении, но и доподлинно о каждом слове. В этот же день предложили подать заявление. Даже формулировку порекомендовали: «В связи с возрастом физически становится все труднее обеспечивать динамичное руководство на уровне современных задач». Повторил слово в слово, как было указано. От себя добавил просто и скупо: «Ставя интересы дела на первый план, прошу удовлетворить мою просьбу и освободить от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию». Ясно понял – все равно житья не будет. Лучше уйти самому подобру-поздорову. Перед уходом зашел к заму. Обычно виделись раз по десять на дню, а тут и глаз не казал. Увидел Можейко, встрепенулся, побежал навстречу. Антон Петрович с яростью отстранился: «Зачем весь этот маскарад затеял? Стольких людей стравил. Неужели напрямик сказать не мог?» Можейко брезгливо посмотрел: «Слизняк! Даже признаться и то не может, новое мышление». Не усомнился ни на минуту. Чего-чего, а за свою чиновничью жизнь навидался всякого. Вышел, хлопнув дверью. Ненависть бурлила и душила его. За неделю сдал дела, оформил пенсию. Знал, собираются устроить пышные проводы. «Как же! Старейший работник отрасли!» Он вошел в актовый зал, окинул взглядом своих бывших сослуживцев, и ярость заклокотала в нем: «Погодите, я вам обедню подпорчу». Коротко попрощавшись, он тут же устремился к выходу. Торжественная часть была скомкана его мощным натиском. Шел прямо, врезаясь в толпу собравшихся сотрудников. Зам с громадной юбилейной папкой в руке бросился было наперерез. Но Можейко процедил сквозь зубы: «Прочь с дороги…»
Теперь неловко и болезненно было об этом вспоминать. Можейко поморщился. «Черт с ними. Надо было потерпеть. В конце концов, не впервой». И вдруг словно пронзило его «А ведь этот слизняк здесь не зря крутится. Наверно, квартиру себе присматривает».
Он вошел в подъезд. Кивнул вахтеру. Спросил деланно безразличным тоном: «К кому этот товарищ приходил?» Вахтер смущенно пожал плечами. И, немного помявшись, сказал неопределенно: «На второй этаж». «В бывшую черновскую квартиру?» – уточнил Антон Петрович. «Не знаю, – хмуро ответил вахтер, – он мне пропуск показал и пошел». «Точно. Угадал, – подумал с яростью Можейко. – Вот оно что? Народом прикрываются, а себе рвут. Нет уж. Не выйдет. Костьми лягу, а не отдам». Придя домой, тотчас взял папку с бумагами. Полистал. Акт бюро технической инвентаризации об аварийном состоянии дома. Заявление Полины с просьбой о прописке. Свое заявление в горисполком. Болезнь Полины все перечеркнула. «Выходит, все усилия – прахом. Опять начинать с нуля. – Отчаяние, усталость охватили его. – Почему мне все дается такой кровью? Хоть бы что-нибудь судьба подарила за так. Нет. Всю жизнь бьюсь, карабкаюсь. И сейчас уже одной ногой там, а все равно должен бороться». Ему стало невыносимо жаль себя. Чуть не до слез. Но тут же овладел собой. Начал перебирать вариант за вариантом.
16
На Илью Ильича беда свалилась как снег на голову. Первые дни ходил как потерянный. Оперировали мать перед самым Новым годом. Хотел отложить. Перенести на неделю-другую после праздников. Врачи в одну душу твердили: «Сейчас. Немедленно».
Оказалось, уже опоздали. С палатным врачом встретился случайно. В больничном саду. Светило январское солнце. Деревья стояли в инее. Он терпеливо ждал, пока наговорится с какой-то знакомой. Болтали о покупках, о детях. Илья Ильич тихо кипел: «Сколько же можно?». отчего-то вспомнил об антоновке, что росла у материнского дома. «Нужно бы рогожей обмотать, а то погибнет. Говорят, морозы будут большие в феврале. Мать этот сорт любит. Складывает на зиму горкой в сенях». Думал о том, что операция, слава Б-гу, уже позади. Скорей бы выписали. А то больница у черта на куличиках. Не наездишься. О плохом и мысли не допускал. Конечно, не мальчик. Понимал — всякое в жизни случается. Но не для матери. Потому что если и для нее, то где же справедливость? Где? Конечно, знал – не вечная. Рано или поздно случится. Но пусть во сне, на бегу. На ходу. Только чтоб не мучилась, не страдала.
Врач его вспомнила не сразу. А узнав, замялась: «Хотела с вами поговорить». И ударила, как обухом по голове: «До весны вряд ли доживет. Поздно обратились. Да и возраст… Мы бессильны»… Илья Ильич возмутился, взъярился: «Господи, что несет? Ведь вот она, мать! Живая. Только что с ней разговаривал. За руку держал. И на тебе – «До весны не доживет». Да что же это такое творится? Выходит, сегодня человек есть, а завтра – умер? Нет. Шалишь! Дура недоученная. Ишь ты! «Бессильны». А где тебе силы взять, когда о тряпках думаешь, да своим детям носы утираешь?»
«Скажите! А повыше вас есть здесь медицинские светила? Или вы самое крупное? – уязвил ее с ненавистью в голосе. Она покраснела. В глазах – слезы. И вдруг припала к нему. Заплакала в голос. Илья Ильич опешил. «Психопатка», – подумал он. «Что вы? Что с вами?»—сказал растерянно. Она утерла краешком халата глаза. Забормотала, всхлипывая: «Извините! У меня мать две недели как умерла. И ничего, ничего не могла сделать для нее». И оттого, что не стала спорить, не стала кричать. Оттого, что заплакала. Он понял – правда. И страшно ему стало. Будто в бездну проваливается. Ведь многое узнал в этой жизни. Многому научился. Приспособился. А главное – забыл. Думал, не для него это. Ан нет! Настигло. Он с ненавистью посмотрел на пушистый иней, на искрящийся под солнцем снег. «Скоро растает. Побегут ручьи. А когда на яблоне появится бело-розовый цвет, матери уже не будет». И захотелось остановить навсегда время. Повернуть его вспять. Пусть будет вечная зима. Морозы. Сугробы. «Нет! – кричала и корчилась его душа. – Нет! Не отдам! Разве тебе мало моего отца?» С кем торговался, кого молил, и сам не мог понять. Он ударил кулаком по стволу дерева. Иней посыпался хлопьями. Ему почудилось – лепестки яблони.