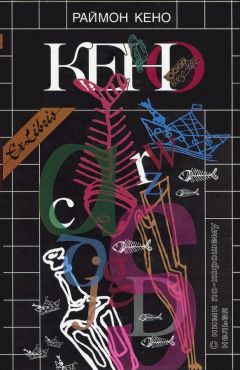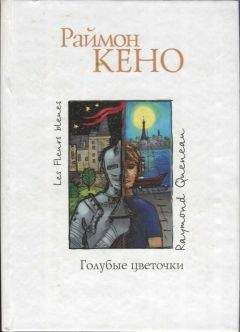Раймон Кено - С ними по-хорошему нельзя
Он удовлетворенно улыбнулся и плюхнулся на табуретку.
— Саломея, а чем мы их угостим? Уиски?
— Кончился.
— Может, сходишь за бутылочкой?
— Денег нет.
— О’Кохтэйл даст в кредит.
— Больше не даст.
Джоэл вывернул карманы: у него оставался всего один реал. Миссис Килларни обладала еще тремя финингами. У Мэри в сумке был один флорин, а у меня — три пунта, но я показала лишь две куроны.
— Хватит, — сказала миссис Килларни и весело убежала за напитком.
— А отец? — спросил Джоэл, отковыривая ногтями засохшую грязь на ботинках.
— Отец! Отец меня достал выше крыши, — сказала Мэри. — Я свалю из дома, как только смогу зарабатывать на кормежку.
— Будешь жить с Джоном Томасом?
— Возможно.
— Дома обо мне говорят?
— Мама передает привет. А он если и говорит, то только для того, чтобы сказать гадость, сморозить глупость или отдать приказ. Напыщенный мудак.
— А ты, Салли, почему молчишь?
— Ну, я-то, — ответила я. — Мне по фигу.
— Ты что, Салли? У тебя что-нибудь не так? По-моему, ты после каникул изменилась. Что с тобой?
— Со мной? Ничего. Совершенно ничего.
— Она страдает от засунутой внутрь любви, — заметила Мэри.
— Ты вгонишь меня в краску, дурочка.
— Она не знает, куда ее прицепить, эту любовь. В ее жизни не хватает вешалки.
— А с Варнавой ты больше не видишься? — спросил Джоэл.
— Смотри, как ты мною заинтересовался, с тех пор как отбыл из дому.
— Говорю тебе, я словно заново родился.
Миссис Килларни вернулась с пятью бутылками.
— Кредит возродился, — сказала она, подмигнув.
Мы устроились поудобнее на валяющихся в комнате обломках мебели и принялись говорить о том о сем: о финансовом положении Финляндии, о содержании витаминов в сале с капустой, о существовании Гомера и Шекспира, о роже принца Уэльского и т. п. Когда мы прикончили третью бутылку, Мэри заметила, что пора уже, наверное, возвращаться. Я объявила, что кладу на это с королевским прибором. Мы договорились прерваться на четвертой бутылке. Джоэл продекламировал лимерики, и от смеха нас буквально скрутило в штопор (на этот раз я понимала один куплет из пяти). Мэри перечислила наизусть тысячу двести филиппинских островов. А в конце мы спели все вместе несколько песен. Справив малую нужду (каждая — свою, и по очереди) на лестнице, мы попрощались с Джоэлом, миссис Килларни и Саломеей, которую разбудил наш уход и которой мы договорились в складчину купить какую-нибудь увлекательную игрушку вроде металлического конструктора или микроскопа.
Лестница оказалась причудливо обрывистой, мостовая — причудливо скользкой. Хозяева прокричали нам последнее прощай, высунувшись из окна, откуда свисало грязное белье, которое уже никогда не побелеет. Мэри вырвало на стер[*] свиных ушей, заждавшихся покупателя, и мы направились к дому, отныне не только материнскому, но и отеческому. Ходьба в потемках показалась нам спортом весьма непростым и небезопасным, мы взбодрили себя куплетами, в которые постарались ввести как можно больше слов с непонятным нам смыслом. Прохожие бурно нас приветствовали. Некоторые даже предлагали разделить с ними их ложе, но мы отказывались, потому что любим свои кроватки и к ним очень привыкли (по крайней мере, я). Например, у дяди Мак-Куллоха я спала очень беспокойно.
На углу Лонг-лейн и Хейтсбери-стрит мы столкнулись с молодым человеком, которого, как нам показалось, мы узнали.
— Да ведь это Варнава! — воскликнула я.
— Думаешь, это Варнава? — спросила Мэри.
— Очень похоже на то, что должно быть Варнавой, — ответила я.
— И как у него идут дела, у этого, должно быть, Варнавы? — спросила у меня Мэри.
— У Варнавы дела идут совсем неплохо в последнее то и дело наступающее время, — ответила я.
— Я так рада, что у Варнавы дела идут хорошо в последнее то и дело наступающее время, — объявила Мэри.
— Факт, что у Варнавы дела идут очень и очень хорошо в последнее то и дело наступающее время, — подтвердила я.
— Вы не против, если я вас провожу? — спросил Варнава.
— Кажется, Варнава намерен нас проводить, — сказала Мэри.
— А не попросить ли нам Варнаву, чтобы он вознамерился нас проводить? — предложила я.
Обменявшись различными сообщениями скорее монологического характера, два с половиной часа спустя мы очутились перед дверью нашего дома.
— Я поговорю с вашей матерью, — предложил конфиденциально Варнава.
— Не стоит, — сказала я. — Сами разберемся.
Мэри позвонила в дверь. Варнава удалился.
— Когда ты сводишь меня в кино? — прокричала я вслед.
Но так и не услышала, что он ответил. Дверь отворилась, и мы легким галопом протопали в столовую. К нашему изумлению, стол не был накрыт.
— Это еще что такое?! — спросила Мэри. — Жрать сегодня не будем?
— Шш, — зашептала мама. — Шш, шш.
— И впрямь, — подхватила я. — Что происходит?
Тут в комнату вошел папа.
— Гляди-ка, а вот и он, — проговорила я.
И добавила, обращаясь к маме:
— Так что? Стол еще не накрыт?
— Мы уже закончили ужинать, — ответил папа голосом баобаба.
— А мы нет. Еще и не начинали.
— Ничего не поделаешь: сегодня уже не получится.
— Но я хочу есть, — сказала Мэри.
— А пить ты не хочешь?
— Разумеется. Что за вопрос? Как вам это нравится?
В ответ она получила такую затрещину, что застыла разинув рот. Этот акт вандализма толкнул меня на чрезвычайные меры: я устремилась к папе, чтобы потрясти его немного за одежду и научить хорошим манерам. Но я не учла, что он хранит в памяти кое-какие приемы внутрисемейного единоборства, а у меня от выпитого уиски воспоминания о них несколько размылись.
Несколько секунд спустя я возлежала с задранной юбкой и приспущенными трусиками на папиных коленях и получала энергичные шлепки. В связи с происходящим я принялась сначала размышлять о суетности мира сего, о взлетах и падениях на жизненном пути, об улыбках и гримасах фортуны, после чего разогревание базиса устремило меня к раздумьям о размножении растительных и животных видов, о пошиве мужской одежды в целом и шестеринок в частности, о росе магических валунов, о козлиных бородках и сумраке кинозалов. Я впала в исступление и, покуда папа яростно румянил обширную поверхность, с честью представленную его взору, провалилась в удивительное состояние блаженства, хотя и пыталась уцепиться за спасительные, словно буй, слова: «Покрепче держись... Покрепче держись за поручень...»
31 января
Варнава ждал меня у выхода после урока и напомнил, что я просила его сводить меня в кино. Мы пошли смотреть «Нью-Йорк — Майами»[*]. Я следила за тем, чтобы не положить ему руку на ляжку. Со своей стороны, он, как мне показалось, пугливо забился в кресло. Потом он проводил меня домой. Мы почти ничего друг другу не сказали, лишь немного поговорили о кельтской филологии. Интересно, о чем он думал? Сегодня папа оказался более разговорчивым. Он рассказывал маме про Чикаго, бутлегеров, пулеметные очереди и про то, что еще бы чуть-чуть и он нашел бы коробок спичек, после чего смог бы сразу вернуться. Захватывающий рассказ. Но все это он адресовал маме, а нас словно и не замечал. На Бесс он тоже не обращает внимания. Она очень красивая и немного похожа на Мэйв, такая же худенькая. А я-то думала, что папа начнет ее козлячить. Вовсе нет. Он на нее даже не смотрит, что не мешает Бесс пребывать в состоянии перманентного ужаса.
1 февраля
Пусть не думает, что может проделывать это ежедневно. Сегодня под предлогом того, что прищемил себе палец щипцами для колки орехов (опять эти чертовы щипцы!), он вздумал разукрасить мне попу. Но теперь я уже знаю его силы и стиль нападения. Когда он захотел меня схватить, я бросилась к нему и заломала ему руку за спину приемом собственного изобретения, от которого он просто обалдел.
3 февраля
Папа ничего не может поделать со мной и оттягивается на Мэри.
На обед был хек. Мэри придумала его немного посолить (обычно мы посыпаем сахаром, по-английски). Это повергло папу в ярость, он набросился на Мэри и сурово ее наказал. Я внимательно наблюдала за процессом: самое интересное — изменение цвета кожи. Забавно, что зад — обычно белый, почти опаловый (я говорю о себе и Мэри) — на ваших глазах становится красным, как рак или помидор. А еще любопытно рассматривать выражение лица отшлепываемого. У Мэри выражение было более чем странным. Интересно знать, какая физия была у меня в тот день, когда шлепали меня.
Как только мы остались одни, Мэри закатила мне ужасную сцену. Я, видите ли, не пришла ей на помощь. Я, понимаете ли, — ложная сестра, вероломная сука и законченная стерва. Понемногу она успокоилась и заявила: