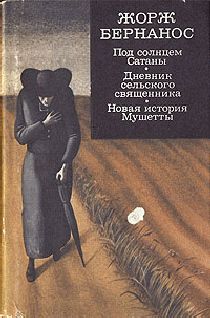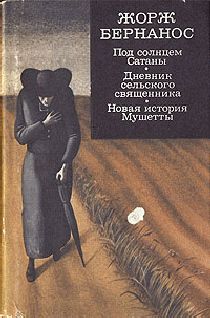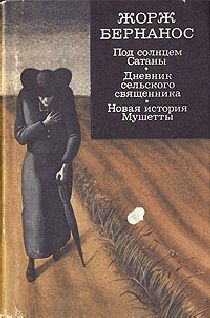Жорж Бернанос - Под солнцем Сатаны
Когда викарий кончил исповедь, настоятель, повинуясь совершенно искреннему порыву, обратился к висевшему в изголовье кровати распятию флорентийской работы и промолвил голосом мягким и сильным в то же время:
– Возблагодарим Господа нашего, дитя мое, за то, что речь ваша была столь искренна и смиренна. Ибо простота эта обезоруживает самый дух зла.
Поманив молодого священника, он привстал на своем ложе, вперил взор в глаза Дониссана и проговорил, приблизив лицо свое вплоть:
– Верю вам, верю безусловно. Но мне должно приготовиться к тому, что я намерен сказать вам… Возьмите на столе, справа, да, да, там – "Подражание Господу нашему"… Раскройте на главе пятьдесят шестой и читайте со всем чувством, на какое способны, в особенности четверостишия пятое и шестое. Читайте же… Оставьте меня.
Старый священник, наделенный редкостными качествами, которые долгие годы пребывали втуне из-за невежества, несправедливости и зависти людской, чувствовал, что это неповторимое мгновение стало часом его торжества. Сравнения, заимствованные в языке житейском, слишком немощны, чтобы выразить явления жизни духовной и дать ощутить их величие. Настал час, когда этот выдающийся человек, утонченный и страстный, смелый, как никто другой, но и способный в то же время исследовать любое явление отточенным лезвием ума, должен был показать полную меру своего дарования.
– …И устыдился, бежав от славы… – прошептал он, повторяя по памяти заключительные слова главы. – А теперь слушайте меня, друг мой.
Викарий послушно поднялся с молитвенной скамеечки и встал в нескольких шагах от старца.
– Вероятно, то, что вы услышите от меня, причинит вам боль. Бог свидетель, до сей поры я чересчур щадил вас! Но мне не хочется смущать вашу совесть… Что бы я ни сказал, да будет душа ваша покойна, ибо нет на вас греха, ежели не почитать за грех содеянное по неопытности либо от ревностного желания послужить делу божию. Вы поняли меня?
Аббат молча наклонил голову.
– Вы поступили, словно простодушное дитя, – продолжал старец по непродолжительном молчании. – Уготованные вам здесь испытания столь тяжки, что лишь человек самоуверенный может надеяться выдержать их. Более чем когда бы то ни было прежде, чего бы вам то ни стоило, уклоняйтесь от них, бегите без оглядки, ибо каждому посылается искус лишь в меру сил его. Желание рождается, растет, изменяется вместе с нами. Подобно застарелому недугу, оно есть некое промежуточное состояние между здоровьем и болезнью. Чаще всего достаточно набраться терпения. Но иногда болезнь внезапно обостряется, может случиться, что какая-то новая причина…
Он умолк в некотором смущении, но быстро оправился.
– Прежде всего запомните вот что: отныне вы будете для всех (и кто знает, как долго это будет продолжаться!) лишь самонадеянным аббатишкой, наделенным не в меру пылким воображением, полумечтателем, полулжецом, а может статься, и попросту безумцем. Отнеситесь же к епитимье, которую на вас, наверное, наложат, к безмолвию и временному забвению монашьей обители не как к несправедливой каре, но как к необходимой и оправданной предосторожности… Вы следите мою мысль?
Тот же взгляд и то же наклонение головы.
– Я не стану таиться от вас, мальчик мой. В продолжение многих месяцев я наблюдаю за вами, может быть, слишком осторожно, слишком нерешительно. Но уже с первого дня я понял смысл происходящего. Господь посылает вам от милостей своих слишком щедро, я бы сказал, превосходя всякую меру, надо полагать оттого, что сверх меры искушал вас. Не скудеют щедроты Духа Святаго, но доброта его николи не есть напрасна, понеже соизмеряема с нуждами нашими. Знак сей глаголет ясно: Дьявол вторгся в жизнь вашу.
И теперь промолчал Дониссан.
– Ах, чадо мое, невежды стараются не замечать такие дела! Иной священник одно имя Сатаны страшится вымолвить. Что для них внутренняя жизнь человека? Унылое борение звериных начал. Нравственность? Всего лишь разумное управление чувственностью. Милость божия, полагают они, есть не более чем суждение истинное, наставляющее разум, а искушение – всего-навсего томление плоти, понуждающее разум ко лжи. Как видите, они весьма упрощенно представляют себе даже самые заурядные явления великой битвы, разыгрывающейся в нас. Предполагается, что человек, руководствуясь сознанием, ищет лишь удовольствия и пользы. Но это годится только для человека, придуманного сочинителями, неведомо где существующего среднего человека! Эти ребяческие выдумки ничего не объясняют. В мире скотов двуногих, наделенных чувствами и рассудком, святому нечего делать, разве попасть в сумасшедшие. И уж за этим дело не станет, поверьте мне! Но не здесь главное. Каждый из нас – ах, кабы вы помнили всегда слова старого друга! – так или иначе становится попеременно то злодеем, то святым: то его влечет к добру – не потому, что он все более убеждается разумом в преимуществах добра, но, очевидно, потому что некий непостижимый порыв, могучая волна любви вздымает его, и он жаждет страдания и самоотречения, то овладевает им мучительное и необъяснимое стремление к безнравственности, к тлетворным усладам, хмельное влечение к плотскому началу, неизъяснимая тоска по нем. И что тогда многовековый опыт обуздания нравственностью! Что печальные примеры столь многих жалких грешников, что напоминания о горькой их доле! Помните же, мальчик мой, зло, как и добро, любят ради него самого и служат ему ради него.
От природы слабый голос настоятеля становился мало-помалу все глуше, так что наконец могло показаться, что он говорит сам с собой. Однако впечатление было обманчиво. Глаза его из-под приспущенных век неотрывно глядели в лицо Дониссану. Первое время оно не обнаруживало никакого волнения, но при последних словах бесстрастность исчезла вдруг, словно с него спала личина.
– Возможно ль? – вскричал Дониссан. – Ужли мы столь несчастны?
Он не кончил начатой мысли, не подкрепил ее ни единым движением. Тоска жестокая, словами не изъяснимая, столь мучительно отобразилась в сем сбивчивом восклицании, в безнадежной покорности застлавшихся мраком очей, что Мену-Сегре почти невольно раскрыл объятия, и Дониссан бросился в них.
Он стоял на коленях у высокого стеганого кресла, припав в детском порыве угловатой, коротко стриженной головой к груди друга своего… Но, по молчаливому уговору, они скоро отстранились друг от друга. Теперь викарий просто стоял на коленях, как подобает кающемуся на исповеди. Волнение настоятеля заметно было лишь по легкой дрожи правой руки, поднятой для благословения.
– Такие речи смущают вас, дитя мое. Но мне хочется, чтобы они вооружили вас, ибо совершенно очевидно, что монашья келья уготована не вам.
Губ его коснулась и тотчас исчезла грустная улыбка.
– Жизнь в монашьей обители, куда вас скоро отправят, будет для вас, несомненно, порою испытаний и тяжкого духовного одиночества. Искус ваш продлится более, чем вы предполагаете.
Он надолго остановил отеческий взгляд, где сквозила мягкая насмешка, на склоненном лице.
– Вы не рождены нравиться, ибо в вас есть то, что люди ненавидят более всего, расчетливой, изощренной ненавистью: умение и желание быть сильным. Нескоро, нет, нескоро оставят они вас в покое.
Помолчав, он продолжал:
– Труд Господа, нас совершенствующего, редко приносит желанные нам плоды. Почти всегда нам кажется, что Дух Святый берется за дело не с того конца, тратит время напрасно. Когда бы кусок железа мог сознавать терпуг, медлительно опиливающий его, о, как бы ярился он, как изнывал от скуки! Но именно так трудится над нами Господь. Житие иных святых представляется нам ужасающе однообразным, подобным бесплодной пустыне.
Он медленно склонил чело, и Дониссан впервые увидел, как две тяжкие слезы скатились из омрачившихся очей настоятеля. Но тут же Мену-Сегре тряхнул головой и промолвил:
– Ну, довольно. Поспешим же, ибо скоро пробьет час, когда я, как принято думать в миру, уже ничем не смогу помочь вам. Поговорим теперь начистоту, со всей определенностью, на какую способны. Чтобы выразить явления сверхъестественные, нет лучшего средства, чем обычный, обиходный язык, употребляемые в повседневной жизни слова. Тут уж наверное рассеется любой обман. Обратимся же к первой вашей встрече. Откуда мне знать, действительно ли вы сошлись лицом к лицу с тем, кого встречаем ежедневно увы, не на повороте дороги, но в нас самих? Какая разница, действительно вы его видели или он просто померещился вам. То, что мирянам кажется событием чрезвычайной важности, для смиренного слуги божьего есть не более, чем второстепенное обстоятельство. Лишь труды ваши могут подтвердить ваш дар прозрения и чистосердечие, одни они представят доказательства в вашу пользу. Оставим это.
Он поправил сбившиеся подушки, отдышался и продолжал тем же странно добродушным голосом: