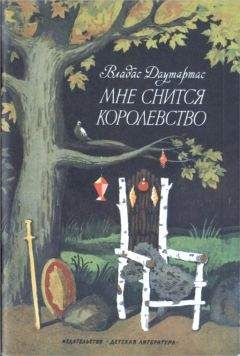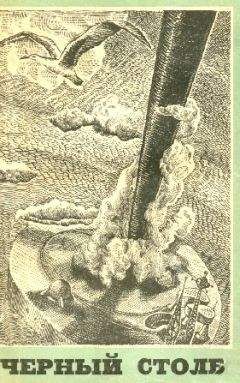Ирина Дудина - Пение птиц в положении лёжа
В 7 утра шёл в Москве сильный дождь. На асфальте сидела полуживая намокшая бабочка. Бабочку я подняла и прицепила к стволу в сухом месте, дав ей шанс обсохнуть и выжить. Тут навстречу мне вышел пожилой армянин в трениках.
Армянин сказал, что его зовут дед Мурат. Он спросил меня, кто я и откуда в 7 утра? Я сказала, что поэт и рюкзак мой набит рукописями.
Он дал мне две конфеты и загадал армянскую загадку. Мне никак было не угадать, что же ответила принцесса. Я измучилась — и так и этак — мне всё никак не удавалось найти правильный ответ. Дед Мурат хитро улыбался, говорил, что это очень красивая загадка. Мне как литератору следует её записать. Что очень красивая концовка у этой притчи. Я попросила пощады, сказала, что сдаюсь. Он сказал, что ответ я узнаю лишь после того, как отсосу у него в кустах. И ещё получу сверх того 100 рублей.
Я сказала, что не пью, не курю и не сосу у посторонних. Он озадаченно спросил: а сколько берут поэты за это? Я сказала, что у поэтов речевой аппарат очень разработанный, и они привыкли делать в другую сторону. Поэтому если уж использовать таким образом, то никак не меньше 100 баксов. Мурат расстроился — у него не было 100 баксов. Я воспользовалась моментом и убежала. Он отстал у ларьков. Через несколько минут он догнал меня, тяжело дыша и харкаясь, сказал, что дедушка Мурат сейчас умрёт. Действительно, дыхание у него было прерывистое. Он зашептал что-то затверженное из своей юности: «Постой. Я полубил тебя. Я нэ могу. На, возьмы 500 рублей. Больше у меня нету. Я просто очень лублу красивых молодых женщин. Нэ могу удэржаться». Он сказал, что не будет меня долго мучить, кончит быстро мне в рот за две минуты, что у него чистый, белый, красивый, мне понравится, мне не будет противно. Что люди должны быть добрыми друг к другу. Я выскользнула из его довольно крепких рук и захлопнула перед его носом железную дверь с магнитным замком. Через три часа я, под проливным дождём, выходила из квартиры моих знакомых. Неподалёку, под козырьком ларька, меня караулил дед Мурат. Я прикрылась зонтом и убежала.
Бабочку я пожалела, а деда Мурата — нет. Убежала…
Вечером, прогуливаясь по Москве, я обнаружила обрывок афиши Артклуба — там был указан адрес и сообщалось о джазовом фестивале, выставках и т. п. Мне захотелось приобщиться к московской богемной жизни. Я нырнула в метро, вынырнула, свежая и бодрая, как бы из живой воды, где надо, прошла через парк.
Увы. Летний Артклуб был абсолютно мёртв. Ни афиш, ни людей. Двери и окна плотно закрыты. Следы разрушения и запустения повсюду. На углу невысокого особняка была роскошная некогда лестница, полукругами ведущая на обширную площадку второго этажа. Колонны балюстрады были надкусаны и кое-где покосились, изредка выглядывала арматура, а куски архитектурной плоти валялись тут же, у подножия своих тел. Под одним из отпавших цементных кусков какая-то бумажка лежала, углом утопая в луже. Вроде как 5 рублей. Я наклонилась — вроде с пятёркой соседствовал нолик. Сердце возбуждённо забилось. Через секунду ему предстояло забиться ещё сильнее, прямо-таки затрепетать от радости. Я подняла — это было 500 рублей, чудесная целая пятисотрублёвая бумажка, слегка сырая от непогоды.
Вечером в кармане, рядом с пятисотрублёвкой, я обнаружила две конфеты. Это были «Малиновая сказка» и «Петушок», привет от деда Мурата.
О встрече с раем детстваУ каждого ребёнка должны быть свои райские кущи, сады и поляны.
Рощино зимой — это особый рай. Это изобилие снега, когда недалеко, в городе, зима тяжело больна, черна, грязна, с чахоточным нездоровым повышением температуры.
Эти шапки и шубки из белейшего и алмазного на всём, что можно укутать. Любовно облагороженные снегом ёлки, с прорисованным рыбным скелетиком ветвей, с рыбной головой из белого сверху. Напудренные сахарные головки сосен. Узорчатая утолщённая прелесть веток. Прямо Швейцария какая-то. Старинные открытки с надписью: «Счастливый Новый год».
Зелёное чистое небо поутру с мерцающей запоздалой звёздой. Розово-золотые лучи восходящего светила, запутавшиеся в молодых сосенках под снегом. Бело-голубые холмы, в которых сосенки укутаны с головой ввиду своего младенчества. Лыжня вдоль берегов незамерзающей речки Рощинки, весело щебечущей своими прозрачно-чёрными губами что-то среди пухлых от снега берегов и пожелтелого, слабого перед бегуньей льда. А потом, после длинного спуска с горы из леса, со свистом в ушах и пощипыванием щёк и носа, — выезд на холмистые просторы, где «лес вдали чернеет» и «речка подо льдом блестит». Всё точно сказано. И дым из труб деревенских домов, укутанных снегом по самые глаза — окна. Лай собак. Запах дыма и жилья… Сказочные весёлые картинки.
Весёлая турбаза. Оттаивающие шерстяные свитера и варежки. Запах просмолённых лыж с квадратиками стекающего снега. Ручеёк снежной слезы, скатывающийся на металл лыжного крепления. Горячий пар чая и кофе из термосов. Карты, анекдоты. Беседы часов до двух-трёх ночи. Бесполый сон усталых лыжников на пионерских кроватях. Чёрными вечерами — теннис и бильярд в спортивном зале. Бесплатный. Азартный, пока не надоест.
Я купила путёвку в Рощино, предвкушая введение в лыжный рай и зимние красоты моих детей. Лес тот же. Горы в лесу те же. Речка такая же. И солнце такое же золотое сквозь заснеженную хвою. Но на лыжах почти никто не катался. Лыжни носили укороченный и девственный характер, выезженные одиноким экипированным лыжником, гоняющимся взад-вперёд по средних размеров кругу. Не то что раньше — бесконечные лыжни, ведущие в запредельные дали и красоты.
Подростки из пионерского зимнего лагеря курили повсюду под ёлками и матерились. Потом разбили лагерную беседку, стали кататься с гор на кусках пластмассы. Их убогую ругань можно понять — детство без лыж, тенниса, коньков, хоккея. Без катания с гор, без трамплинов… Без весёлой музыки, оглашающей сосновую гору, без разноцветных флажков, старта и финиша, без тренера, внимательно записывающего твои блошиные лыжные успехи… Подростки матерятся по существу, проклиная своё неухоженное детство. Мир покинут взрослыми. Кругом одни бесхозные заброшенные дети. Молоденькие, маленькие и взрослые, состарившиеся, седенькие.
И вечерняя тоска — звериная тоска среди жутких облупившихся домов и деревянных мёртвых бараков непонятного назначения, среди белых унылых фонарей, задравших свои заржавленные плошки кверху, как бы в позе вытья на луну. Всюду намёк на бренность всего живого, следы разрухи. Тайное злорадство побеждающей всюду костлявой. И ни одной украшенной ёлки на улице в рождественскую пору… Тоска, тоска. Разлившиеся некачественные желтки света из окон детского лагеря, выдающие нищету и мерзость внутреннего убранства пионерских палат.
Однажды мы с сыном возвращались с лыж в жутковатой синеве зимних сумерек. Странное здание у красивой речки было всё освещено изнутри, высвечивая диагональные решётки на окнах. Ни одного окна без решётки. Что это? Завод? Нет трубы и дыма. Бюрократическое учреждение, лесной Сбербанк? Нет, не то…
За решётками замелькали тени. Мужчины в пижамах и халатах. Некоторые со странным метанием из угла в угол. Львы и тигры, запертые в вонючую клетку зоопарка с бессонно смотрящей на весь этот ужас лампочкой. Сумасшедший дом. Тот самый, о котором кто-то что-то говорил. Что нечем их кормить, и половину подопечных выпустили на волю. На самостоятельные поиски прокорма в заснеженных лесах. Воля в ледяной красоте.
Мы с сыном завороженно смотрели на мятущиеся в неволе тени крепких, молодых в основном мужчин. С лицами и движениями нормальных. Издалека, по крайней мере. Обезмужиченная турбаза, переполненная женщинами и детьми. А тут, поблизости, мужской отстойник. Вот где они, милые, скрываются. Во цвете лет, во всей мужской красе. В цепях узаконенной лени. Мужчины, выбравшие не самую лёгкую тропу бегства от жизни. С дистанции хода назад нет.
Хода назад, в рай, нет.
Мать и сынОдна родственница, очень крупная, полная дама в круглых толстых очках, с завитками золотых кудрей, с ножками, ужасно напоминающими ножки Наф-Нафа своим высоким подъёмом и невинной прямолинейностью в коленях, безумно любила своего единственного сына. Юра Солнцев — он был солнцем жизни её, солнышком души. Я, маленькая девушка, лет тринадцати, помню его сорокалетним мужчиной, краснолицым, упитанным, с лоснящимся лицом и озорными в сторону матери глазками. У него было две жены. Первая любила его. Вторая — поощряла его избалованность. Она была богатая разведённая дама, у неё были влиятельные родственники.
Я помню игры матери и сына. Юра, после очередной неудачной выпивки, сидит, выпятив поросячий животик в распахнутой рубашке, и охает, пьёт огуречный рассол. Тетя Катя, озорничая, мешает хорошей мельхиоровой ложечкой горячий чай в своей чашке. Потом, неожиданно, прикладывает разгорячённую ложечку к его розовому брюшку. Вскрики, капризный разгневанный речитатив, грузные шлепки, сочный хохот влюблённой мамаши…