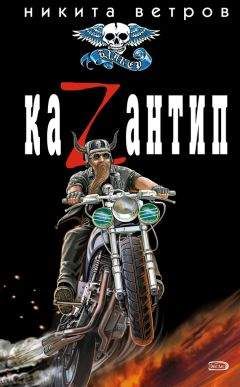Наталья Галкина - Пенаты
Жизнь, видать, тоже чувствовала нечто подобное, потому и послала к нему конвоиров с винтовками.
Должно быть, ему подходила только сказочная роль превращенного очарованного принца.
Младшенький мог стать кем угодно: тихим чиновником, инженером-путейцем, как отец; девочки и есть девочки; среднему шла военная форма, старший стал врачом по призванию; ее ясноглазому пасынку места не было.
Она прекрасно помнила Новый год, тысяча девятисотый, старые Рождественские мирные, милые сердцу домашние утехи; распахнулась дверь, настал двадцатый век, ей не с чем было его сравнить, ей вспомнилась сказка про замок оборотней; в замок оборотней дверь распахнулась, все в замок вошли, дверь захлопнулась, заржавели засовы, заколдованы вошедшие, ключ от замка потерян. Оборотень, оборотень покажись! Кажусь, кажусь, кажусь! Эхо страшных голосов, диких песен
Все было невозвратно, невоскресимо. Только два воскресших могли жить в душе ее: Лазарь, восставший из гроба, и преображенный Христос. Все остальные напоминали о привидениях, и сама она была такой же призрак темный.
«Надо встать, подойти к ним, увидеть их».
Отстраненный спокойный лес окружал ее. От края обрыва до края ямы хвощи и папоротники образовали свой маленький доисторический лесок, только вместо ящеров в нем шастали ящерицы и лягушата.
Вернувшись с этюдником, лопатой и заступом, Маленький застал Адельгейду сидящей на краю ямы. Она успела уложить их поудобнее, пригладить им волосы, закрыть им глаза.
Маленький открыл этюдник, набитый вместо красок пробирками, штативами, листками бумаги, Бог весть еще чем, она не вглядывалась.
— Побудьте там, на краю обрыва, смотрите, чтобы никого поблизости не было.
Она покорно отошла.
Время шло то быстрей, то медленней, звякали пробирки, она механически оглядывала лес, иногда взглядывая вверх, на тихо плывущие редкие облака. «Смотри, Адель, какие облака», — говорил ей когда-то пасынок, средний, самый красивый, самый любимый, которого сейчас они похоронят еще раз, — «век бы валялся так в цветущей траве и глядел на них».
Она вспомнила, как Николай Федорович колол щипчиками сахар; ведь она узнала знакомую манеру бросать кусочки сахара на стол. «Да, конечно, он от души помогал Маленькому, тот увлек его своими идеями, такой доверчивый был мальчик, он и мне тогда поверил, дуре, это я тогда решила бороться с несправедливостью». Это был ее «смит-и-вессон». Она опять его погубила.
Маленький подошел к ней.
— Сейчас выроем две ямы. Сначала снимем дерн — аккуратненько, потом вернем его на место. Нам надо спешить. Темнеет.
Она думала о проклятой фразе про висящее на стене в первом акте пьесы ружье. Если уж должен быть в итоге расстрел, если такова судьба, пусть будет. Жить она не хотела.
— Пока вы живы, пока вы помните, все они живы, как души нашего общего дома, хранители наши, пенаты, — сказал Маленький, — и они есть, и прежний ваш дом есть. Прекратите. Ваш пистолет — или он револьвер, а? — я утопил, так считайте. Берите лопату, пошли.
Она ведь была огородница, и лопата, и заступ по руке; однако они копали бесконечно долго и мучительно. Им попадались корни, не желавшие поддаваться ни лопате, ни заступу.
Ночь уже подошла слишком близко, когда они уложили два прямоугольника дерна на место и Адельгейда стала залатывать швы по периметру, словно на лужке в палисаднике.
— Как же так? — спросила она жалобно и тихо. — Не отпели. Гробов нет. Цветы на могилу не принести.
— Цветытут сами растут. Особенно весной. Подснежники, прострел, печеночница. Отпеть можно заочно, но и этого делать не надо. Молитесь сами. Будем в этот день два венка на воду опускать на заливе. Всё. Идемте.
— Посидим еще, — попросила она, гладя ладонью дерн.
— Думаете, дерн приживется? — озабоченно спросил Маленький.
— У меня рука легкая. Дерн-то приживется, не беспокойтесь.
В полной тьме, под звездами, с трудом спустились они по крутому склону обрыва.
Залив плескался тихо. По мокрому песку босиком ходила Лара. Маленький скользнул за кустами к домику-прянику, унося заступ и лопату.
— Как будто стреляли в лесу, Адельгейда? — спросила Лара.
— Я не слыхала.
— Вообще-то я спала, с книжкой уснула. То ли мне приснилось, то ли я от выстрелов проснулась.
— Приснилось, конечно.
— Может быть, — сказала Лара задумчиво, — мне часто снится война.
Ночью Адельгейда пришла к Маленькому.
— У меня к вам просьба. Ведь мы вместе были там. Мы копали с вами. Мы хоронили их. У нас есть общие мертвые. Вы не можете не выслушать меня, не пойти мне навстречу, вы не можете теперь считать, что я вам никто. Это тогда, раньше, вы меня в этот мир вернули, меня и его, вы нас не спрашивали, мы вам были никто. Я вам была чужая. Теперь нет. Не делайте этого. Не возвращайте его к жизни еще раз. Я вас прошу. Дайте мне дожить с мыслью, что вы никогда больше его... У вас ведь есть его данные в картотеке? Уничтожьте их
— Я и без картотеки все помню.
— Уничтожьте в картотеке. Вас ведь кто-нибудь сменит. А сами забудьте. Я вас умоляю. Я вас заклинаю. Хотите, я на коленях вас буду молить.
— Да кто я такой, чтобы вы на коленях меня молили?
— Ну, как же... Вы судьба наша. Я ведь вам благодарна должна быть за вторую жизнь, да? а я все о той, первой, меня в этой как бы и вовсе нет. Вы не представляете, как я мучилась все годы. Не представляете. И ведь рядом с ним жила, а не узнала. Убила его во второй раз. Молчите, я знаю, что вы скажете. Расстреливала его не я, да и сегодня оступился он случайно. Только в тот раз я его в заговор-то втянула; а и в этот раз мой был «смит-и-вессон». А молодой человек, я только сейчас поняла, напоминал одного из конвоиров, тех, с берега. Николай Федорович, видать, потому его ненавидел.
— Молодого человека, — медленно сказал Маленький, — он из-за меня убил. Открытие мое оберегал. Все, Адельгейда, хватит, идемте, вынем из картотеки его карточку.
— Спасибо вам, спасибо... — залепетала было она, отирая слезы.
— Да что вы, правда, вы не крепостная перед барином, бросьте.
Она подивилась, как легко нашел Маленький карточку. Печная дверца скрипнула, чиркнула спичка, занялось огнем, рассыпалось прахом.
— Как же я теперь буду жить без него?
— Что делать, придется.
— Кто вам будет помогать?
— Найду кого-нибудь. Костомаров поможет или Гаджиев. У них ученики есть.
— Лучше Костомаров, — сказала она. — Да вам виднее, а мне и вовсе все равно.
К утру привиделась ей одна из предпраздничных ночей; дождавшись, когда дети уснут, входили они с мужем и на стульях у кроваток раскладывали подарки. Большим мальчикам дарили в открытую, а сестренок и младшенького ждали утренние сюрпризы: пахнущие лаком куклы в атласных платьях, глаза закрываются, ямочки на щеках; разноцветный клоун с носом-пупочкой; новое лото, маленький глобус, умещающийся на ладони и — о, чудо! — открывающийся (коробочка для ластика), краски, альбомы.
Она подкарауливала за дверью их крики восторга. Их утренние крики восторга. На этот раз ей не удалось услышать их счастливые выкрики: сон сморил ее.
Глава тридцатая
Адельгейда не хочет ставить самовар. — Лара задает вопросы. — Ирисы. — Дитя.
Адельгейда пробудилась одетая, — впервые в этой жизни. В той она спала одетая после ареста. Между арестом и Обью.
Прежде, вставая, она ставила самовар. Готовила завтрак Николаю Федоровичу. Неузнанному своему любимцу. Проснувшись, она подумала: не ведала, не ведала о своем счастье, а теперь оказалось — была счастлива. Все-таки не зря она старалась сделать дом-близнец похожим на тогдашний их дом. Был смысл в ее действиях, неведомый ей.
Она стала вспоминать Николая Федоровича с поправкой на нынешнее свое знание о нем. Сразу вспомнила, как вместе смотрели они во МХАТе «Дни Турбиных».
В окно стучала Лара.
— Адельгейда, вы не знаете, куда делся наш Робинзон из лачуги?
— Доброе утро, дорогая. Понятия не имею.
— А Николай Федорович не в курсе?
— Николай Федорович вчера уехал в город по делам. Кажется, на какую-то конференцию. Может быть, надолго. Он мне записку оставил, я еще не читала. Знаю только то, что на словах сказал. О молодом человеке речи не было.
Говоря, Адельгейда подивилась только что приобретенной способности лгать легко, непринужденно, естественным голосом.
— Адельгейда, — услышала она голосок Лары в другом окне, — увас ирисы расцвели! Ночью расцвели. Чудо! Всех трех цветов: и желтые, и темно-лиловые, и лазоревые.
— Я вам потом букет подарю, — сказала Адельгейда, опускаясь на табуретку.
Ирисы. Она их сажала и прежде, их все любили, вся семья: и муж, и старшие, и младшие.
Она было взялась за самовар, да раздумала: «Зачем?» По привычке стала причесываться, ох уж эта немецкая опрятность, ну, причешись, вспомни о шпильках, раба Божия Ангелина, причесаться не забыла, а утренняя молитва где?