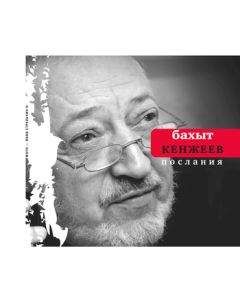Бахыт Кенжеев - Портрет художника в юности
...взятый напрокат, разумеется, - Вероника Евгеньевна, должно быть, перехватила мой любопытствующий взгляд. - Борис Викентьевич тогда был таким же студентом, как ты, даром что знаменитым на весь Петербург, а может быть, и на всю Москву. Пей, - она пододвинула ко мне круглый стакан в мельхиоровом подстаканнике с изображением первого спутника Земли, - тебе с лимоном?
Она села напротив меня и долго размешивала сахар в своем стакане, позвякивая стершейся посеребренной ложечкой о его тонкие стеклянные бока, а потом, еще не сделав ни глотка, закурила. Сигареты у нее были самые простые, без фильтра, однако вставлялись в пластмассовый мундштук под черепаху - тоже, впрочем, самый заурядный, из табачного киоска.
- Ты что-то знаешь об Михаиле Юрьевиче, Алеша?
Я молча огляделся вокруг, тыкая пальцем в потолок, в стены, и, наконец, в телефон, стоявший в прихожей на невысоком столике.
- Говорят, - сказала Вероника Евгеньевна, - что достаточно набрать на диске любую цифру, а потом заклинить его карандашом, и эти гипотетические микрофоны отключаются. Я так и сделала.
- На всякий случай лучше накрыть его подушкой, - авторитетно сказал я.
-Как унизительно это все, - вздохнула хозяйка дома, однако просьбу мою выполнила, а вдобавок - прикрыла дверь из кухни в прихожую. - Михаил Юрьевич рассказывал тебе, что пятнадцать лет тому назад он у меня учился?
Я покачал головой, и, полагая заданный вопрос за риторический, принялся рассказывать, стараясь как можно точнее передать содержание письма - вернее, моего перевода, потому что все-таки не верил в отключение микрофонов посредством карандаша, с другой же стороны - надеясь, что в аппарате тайной полиции нет специалистов по древнегреческому.
- Так значит, жив и здоров! - воскликнула Вероника Евгеньевна. - Господи, какое счастье. И как хорошо, что он прислал именно тебя. Он тебе доверял, Алеша?
- Выходит, что так, - кажется, я покраснел от смущения. - Вероника Евгеньевна, а почему он бросил экзотерику?
- Ребенком он видел одну картину - кого-то из испанских, кажется, мастеров, он показывал мне репродукцию, - отвечала она. - Огромная, наверное, четыре на шесть метров. Полуобнаженный Орфей играет на лире - старомодной, тяжелой, с массивным основанием. А вокруг него собрались всевозможные звери. Львы, тигры, павлины. Даже слон поодаль машет хоботом. Все они забыли и свою вражду, и свой удел в земной юдоли - все слушают Орфея. Вот так, признался мне однажды твой Михаил Юрьевич, хотелось бы ему играть, а на меньшее он согласен не был.
- Михаил Юрьевич замечательный исполнитель, - перебил я.
- Однако играть чужое для слушателей он не хотел, а своего не мог. Вернее, мог, и очень даже мог, ведь он начал писать, примерно в твоем нынешнем возрасте, и - без преувеличений! - замечательно. Ты еще помнишь, какие у меня строгие вкусы? А потом он не прошел творческого конкурса в Экзотерический институт, надулся, и - ушел, совсем как ты много лет спустя, приговаривая, что взял от экзотерики все возможное, и теперь хочет заниматься серьезным делом. И теперь вот вдруг... Что ж - - много званых, мало избранных. Знаешь, мне иногда кажется, что испытание на гордыню - едва ли самое трудное в жизни. Иными словами, сложнее всего научиться смирению.
Недоброжелатель, вероятно, мог бы усмотреть в словах Вероники Евгеньевны фанатизм столь же старомодный, сколь романтический. Но я не мог заставить себя рассердиться на нее, как сердился на отца, не мог вскипеть, не мог даже хладнокровно спорить с нею, как с Зеленовым или с Жуковкиным. Вскинув глаза к стене (я избегал встречаться взглядом с моей наставницей) и снова наткнувшись на сосредоточенный и страдальческий взор старика Розенблюма, я попытался защититься.
- Ему было легче, - сказал я, - он прославился еще до революции. Конечно, его травили, не давали исполнять, не публиковали, но по крайней мере у него было чувство собственной правоты, утвердившееся еще в юности. А у нас его нет и не может быть.
- У кого у нас?
- У тех, кому не по дороге ни с Ястребом Нагорным, ни с Коммунистом Всеобщим, - сказал я.
- Мальчик мой, мальчик, - вздохнула Вероника Евгеньевна, - сознание собственной правоты не зависит ни от славы, ни от признания, ни от биографии. Известность Бориса Викентьевича длилась от силы пять-шесть лет, а крестный путь - почти двадцать.
- Вероника Евгеньевна, - вдруг сказал я едва ли не самую взрослую фразу в своей жизни, - зачем вы меня искушаете?
- Я же педагог, Алеша, - ее ответная полуулыбка показалась мне виноватой, - смысл моей жизни не в тех посредственных вещах, которые я могу писать сама, а в том, чтобы искать таланты. Так страшно, когда видишь искорку, и боишься, что ее затопчут - или она погаснет сама. А насчет искушения ты неправ. Если у тебя нет Божьего дара - ты пропустишь все мои слова мимо ушей. Если же есть - то начнешь работать и без чужой подсказки. Петр и Георгий, например, в ней уже совсем не нуждаются.
Она взяла с подоконника совсем тонкую книгу, скорее брошюру, обернутую в давний выпуск "Правды" и раскрыла ее на закладке.
"Если же тебя обуревают сомнения в собственном таланте - забудь их. Все живые твари равно совершенны перед лицом Господа, как и всякий творец, и крестьянин, вырубающий наличники для своей избы, веселит Его не меньше, чем Микельанджело."
Я хотел сказать Веронике Евгеньевне, что по тщеславию своему вряд ли уступаю доценту Пешкину, и, если уж на то пошло, еще больше боюсь этого призвания, чем два с лишним года назад, когда одноклассники утешали меня в нашей подвальной квартире - но вместо этого только принялся ложечкой извлекать из стакана выжатый и побуревший ломтик лимона. Когда же я заговорил (о своих новых товарищах, разумеется) в глазах Вероники Евгеньевны уже исчез появившийся было почти ведьмовской блеск, и она снова превратилась в изящную пожилую женщину с худыми пальцами, хранившими на ногтях следы не слишком умелого домашнего маникюра.
Было пора идти. Вероника Евгеньевна вышла из кухни и вернулась, сжимая в руках несколько книг с побуревшими от времени обрезами. Вернешь при случае, сказала она кратко, только обещай, что прочитаешь. Да-да, - она поймала мой вопросительный взгляд, - это книги тридцатых годов. Списанные из библиотек, подлежавшие уничтожению и неведомо кем сбереженные. А это, - она протянула мне давешнюю брошюру, - "Письма юному аэду" Ксенофонта Степного. Гордись, - добавила она, - я дорожу этой книгой, и до тебя давала ее читать только Исааку Православному. Которого, кстати, тоже сейчас выталкивают за рубеж. Так и останемся тут с Зеленовыми, с Благородом Современным да со Златокудром Невским..."
Минутах в пяти ходьбы от подъезда Вероники Евгеньевны исходили предосенней прохладой Патриаршие пруды, которые режим упорно именовал Пионерскими, и где зимой, когда я еще учился в старой школе, мы шнуровали стынущими от ветра и морозной пыли пальцами промерзшие, не поддающиеся шнурки конькобежных ботинок с приваренными снизу гагами и норвежками. На прозрачно-серую, чуть рябящую поверхность уже падали, покачиваясь на лету, первые желтые листья. Роман Булгакова был впервые напечатан сравнительно недавно, и среди начитанной московской молодежи царило нечто вроде культа Мастера и его возлюбленной. Помню, как мы с Таней спорили, где именно пролегали трамвайные пути, на которых погиб один из персонажей, и, кажется, согласились по поводу скамейки, на которой сидели герои первых страниц романа. На нее-то и присел я со стаканом газированной воды без сиропа, да с сигаретой в руке, чтобы полистать книги, точнее, погадать на одной из них, как в прошлом веке. Следовало выбрать две цифры - одну для страницы, другую, для строки. Я поступил проще всего, обернувшись, и заметив номер первого же проходящего автомобиля, черной "Волги" с занавесками на заднем стекле. При этом я, конечно же, поежился от легкого страха - все-таки брошюра была издана в Нью-Йорке, хотя и во времена сравнительно незапамятные.
"Здесь я должен предостеречь тебя, мой воображаемый собеседник, живущий в мире, где меня уже давно нет. Любой человек следует своему собственному пути, лежащему в двух параллельных пространствах - пространстве утлой жизни и пространстве высокого творчества. Для одних открыто только первое пространство, другие могут временами проникать во второе. Помнишь пушкинского поэта, которого Аполлон лишь изредка требовал к высокой жертве? Иные из них, движимые гордыней, стремятся перекрыть узкую дверь между двумя пространствами, и остаться либо в первом, либо во втором. Но самое трудное, - это существовать в обоих пространствах одновременно, чтобы они сливались и сквозили друг в друге."
Этот абзац меня решительно не устраивал. Я снова обернулся, чтобы заметить номер другой машины - такой же "Волги" с занавесочками, но на этот раз серой.
"Передо мной на столе бутылка "Ахашени", и эту главку я оборву немедленно после того, как раздастся звонок в дверь от моей невенчанной подруги. Поэтому буду краток: я не философ, и вряд ли знаю многое о добре, истине, красоте, обо всех этих туманных и самих по себе слишком отвлеченных понятиях. С грехом несколько проще: апостол Павел велел не делать ближним того, чего ты не хотел бы для себя сам, и это, пожалуй, самое точное определение греха, которое мне известно. Вряд ли Микельанджело распинал разбойника, чтобы писать с натуры казнимого Христа. Итак, старайся не причинять боли другим, даже ради самой высокой цели. Что же до собственной боли, то не ищи страданий, аэд. Не беспокойся, они и без твоего участия прогрохочут коваными сапогами по черной лестнице. Но и не беги от них - и всякий выбор совершай, не рассчитывая на иное воздаяние, кроме нежданной гармонии, которую можешь ты услыхать на осеннем полустанке в оренбургской степи, или у эпирского родника, или на трамвайном кольце, на окраине города, где камень и асфальт уже сменяются деревом и полынью."