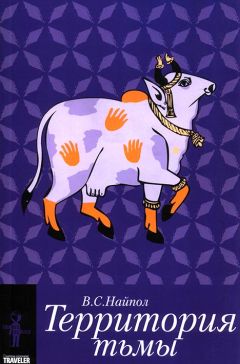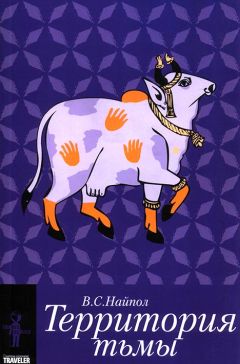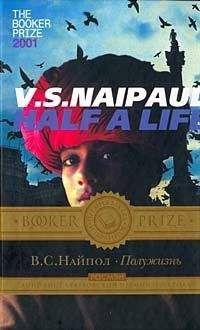Видиадхар Найпол - Средний путь. Карибское путешествие
Противоречия на таком уровне вряд ли могут стать темой для общественного обсуждения в британской части Вест-Индии. Конечно, и там идут разговоры о вест-индской культуре, но эти разговоры просто наивны, если в них не участвуют политики, и в них не подвергается сомнению базовый принцип: отрицать как варварство все, что не происходит из метрополии. То, что колониальное общество может быть обществом без элиты, пугает слишком сильно, чтобы об этом задумываться. Одна из причин такой пассивности британской Вест-Индии состоит в том, что британцы никогда не пытались превратить жителей колоний в англичан. На самом деле их даже возмущала идея равных возможностей для всех в метрополии, которую так легко принимали жители голландской или французской Вест-Индии. В своей империи британцы были «европейцами», и вест-индское представление о метрополии как о «стране-матери» вызывало в Англии удивление, негодование и тревогу. Голландцы же с недавних пор подталкивали суринамцев к мысли, что и они могут стать голландцами, и я слышал о клубе в Амстердаме, где эти суринамские голландцы, попивая геневер[7], с сожалением говорят о потере Индонезии[8]. Парадокс в том, что именно голландский идеализм ведет к отвержению метрополии, в то время как британский цинизм оказался основой достаточно простых отношений между метрополией и колониями.
Голландцы предложили ассимиляцию, но не навязывали ее. Их способность к терпимости и пониманию чужих культур превосходит эту способность британцев и является прямой противоположностью французской заносчивости, которая делает французскую Вест-Индию совершенно невыносимой для всех, кроме франкофилов. И невозможно удержаться от мысли, что это нечестно — то, что именно голландцам приходится видеть, как дары их культуры отвергаются их колонией. Суринам, вышедший из-под голландского правления, оказался единственной по-настоящему многонациональной страной в Вест-Индском регионе. В Тринидаде существуют лишь разные расы, в Суринаме — сосуществуют разные культуры, подвергшиеся взаимному влиянию, но отчетливо различающиеся. Индийцы еще говорят на хинди, яванцы, до сих пор не пришедшие в себя, живут в своем мире, тоскуя на этой плоской, неприглядной земле о горах Явы, у голландцев есть своя Голландия, у креолов — тоже своя, Голландия суринамских городов, а в лесу, вдоль рек буш-негры воссоздали Африку.
Несмотря на все разговоры о культуре, суринамцы не вполне представляют себе разнообразие и культурное богатство собственной страны. Мои постоянные восклицания при виде яванских костюмов вызывали смех у моих друзей-креолов. Креолов интересует только Европа, они не сделали ни малейшей попытки узнать поближе яванцев или индийцев и только недавно, под воздействием национализма, они попытались понять буш-негров. Один националист даже предположил, что существование яванской и индийской культуры в Суринаме — это преграда для развития национальной культуры! Это высвечивает путаницу в понятиях и неожиданные расовые переживания, что стоят за националистической агитацией. Культура в Суринаме представляет собой проблему преимущественно для негров — ведь только они отказались от своего прошлого, от всего, что связывало их с Африкой.
Для негров с островов Африка — не более чем слово, чувство. Для суринамцев Африка начинается практически сразу за порогом. Буш-негры, живущие по рекам, смогли сохранить расовую чистоту, африканское искусство — резьбу, пение, танцы — и, главное, чувство собственного достоинства. Повторное открытие Африки было нетрудным.
Дома. Министр, огромный, черный и добродушный, ставил песни буш-негров на проигрывателе в гостиной с нектандровым[9] полом, в своей прекрасно обставленной, новой министерской резиденции. «Еще несколько лет назад эти песни не звучали в гостиной», — сказал он. После этого, как бы подчеркивая, что наступила другая эпоха, он рассказал несколько анекдотов на здешнем языке — «токи-токи» («болтай-болтай») для насмешников, «негеренгелс» (негритянский английский) для людей корректных, «суринамский» для националистов. Позже он отвел двух других министров разных рас к бару в углу комнаты для политической беседы. Их жены втроем обменивались шутками о политике и политиках.
Националисты надеются заменить голландский язык негритянским английским, и мне удалось поговорить об этом с мистером Эрселем, который очень много работал с этим языком, у него в кабинете. Мистеру Эрселю, как мне показалось, лет сорок с чем-то, он был серьезен, очень любезен, со скульптурным лицом из тех негритянских лиц, каждая черта которых кажется отлитой по отдельности, так что изучаешь такие лица черта за чертой. Он сказал, что большинство суринамцев по-голландски толком не понимают и не говорят, в то время как всякий понимает негритянский английский. Они уже составили словарь негритянского английского, и этот язык растет: в нем каждый день появляются новые слова. Я сказал, что принятие такого языка означает, что на него надо будет перевести все важные книги в мире — а есть ли в нем для этого ресурсы? Найдутся, отвечал мистер Эрсель. А что насчет писателей? Честно ли требовать от них писать на языке, на котором говорит лишь четверть миллиона людей? Это не проблема, сказал мистер Эрсель, хороших писателей переведут. Способен ли такой язык к достаточной тонкости? Способен ли он к поэзии? Мистер Эрсель предложил мне провести тест. Я написал — неточно по памяти:
Бежит меня, кто сам меня искал
И босоногим шел, смиренно, в дом,
Тот, кто со мной был робок, мил и мал,
Теперь не хочет вспоминать о том,
Как из моей руки он хлеб свой брал.
Он тут же перевел:
Den fre gwe f’mi, d’e mek’ mi soekoe so,
Nanga soso foetoe waka n’in’ mi kamra.
Mi si den gendri, safri,
Di kosi now, f’no sabi
Fa den ben nian na mi anoe.
Память моя изменила и упростила простые строки Уайта, а мистер Эрсель упростил их еще больше, но его языку нельзя было отказать в приятности и ритмичности. Я хотел бы посмотреть, как он справится с чем-то более абстрактным, но тут меня окончательно подвела память.
Я не знаю голландский совсем и люблю его за его неправдоподобность, за то впечатление недавнего и произвольного словотворчества, которое он производит. Бормочешь что-то вроде «Ууст вууст туус буус», а получается: «Запад — Восток, а ты знай свой шесток». Английский язык порождает диалекты, но все они узнаваемо английские и не могут повлиять на стандартный язык, голландский же, из-за своей сложности или неправдоподобности, создает новые и самостоятельные языки, которые вскоре уничтожают свою основу. Существует «кухонный голландский» (африкаанс) в Южной Африке, папьяменто на Антильских островах и «негеренгелс» в Суринаме. Страсть к хромой грамматике — одна из черт патриотизма в голландских колониях. В суринамском районе Никери, знаменитом своим независимым духом, издается местная многотиражка под названием Wie for Wie. Статьи в ней написаны, конечно, на безукоризненном голландском, но название, которое представляет собой просто безграмотное для нормативного английского выражение — «мы для мы» — демонстрирует, что на диалект заявляются права исключительной собственности.
Роль английского в формировании суринамского диалекта озадачивает, пока не вспомнишь, что Британская Гвиана совсем близко (в Никери даже играют в крикет) и что Суринам до 1667 года принадлежал Британии. Это по сути сохраненные памятью рабов остатки английского трехсотлетней давности, которые и легли в основу суринамского негритянского английского. В этом и есть истинное чудо. Хотя Тринидад до 1797 года был испанским, а затем, после иммиграции с французских островов, на протяжении почти целого века франкоговорящим, испанский в Тринидаде мертв, а французский теплится лишь в нескольких фразах и конструкциях. В Суринаме же и триста лет спустя в какой-то форме продолжает жить английский. Сначала кажется, что в переводе мистера Эрселя английский элемент практически отсутствует, но это во многом из-за испорченного произношения.
Ah dee day day we. Как ни странно, здесь почти все по-английски — так говорят в англоговорящем, многоумном Тринидаде. В расшифровке это значит: I did there there oui — Я действительно находился там, да (to there — «находиться», «быть в каком-то месте») — словом, это значит просто «Я был там». Если представить себе, на каком английском говорили рабы в Суринаме в 1667 году, а также насколько изменилось произношение в самой Англии, просто удивительно, насколько узнаваемыми остаются многие слова. Можно увидеть этот язык в развитии, через сто лет, в 1770-X гг., в «Рассказе о пяти годах военной экспедиции против восставших негров Суринама» Стедмана.