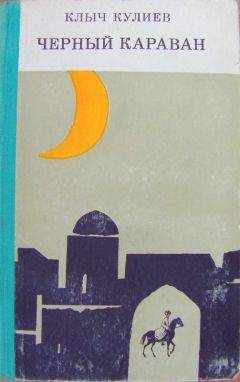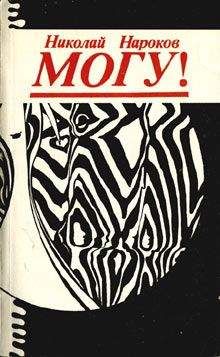Джоанн Хэррис - Шоколад
Меня захлестнула волна нежности — удивительное ощущение, до сих пор не перестающее удивлять меня. Если сильно прищуриться на солнце, посылающем мне в глаза низкие косые лучи, то и впрямь можно увидеть орудийные вспышки и крокодилов — длинные коричневые тени, выпрыгивающие из воды. Анук носится между домами, сверкая красной курткой и желтым беретом, и в отблесках ее яркой одежды я действительно различаю едва заметные очертания атакующих ее зверей. Внезапно она останавливается, поворачивается, машет мне и с пронзительным криком: «Я люблю тебя!» вновь принимается за свое серьезное занятие.
После обеда мы прекратили обслуживание, и всю вторую половину дня вдвоем с Жозефиной трудились не покладая рук, чтобы наделать порцию пралине и трюфелей, которой хватило бы для продажи до конца недели. Я уже начала готовить пасхальные сладости, а Жозефина научилась искусно украшать фигурки зверей и упаковывать их в коробочки, перевязанные разноцветными лентами. Запасы готовой продукции мы сносим в подвал — идеальное место для хранения шоколада. Там темно, сухо и холодно, но не так, как в холодильнике, где шоколад обычно покрывается белым налетом. В подвале хватает места и для сладостей, которыми мы торгуем, и для продуктов домашнего пользования. Под ногами старые плиты, прохладные и гладкие, отшлифованные временем до дубового оттенка. На потолке — одна-единственная лампочка. В нижней части подвальной двери, вытесанной из необработанной сосновой древесины, вырезано отверстие для некогда жившей здесь кошки. Даже Анук нравится этот подвал, где воздух пропитан вековым запахом камня и вина. Пол и беленые стены она разукрасила цветными мелками — нарисовала животных, замки, птиц и звезды.
Арманда с Люком задержались в шоколадной — поговорили немного, потом вместе ушли. Теперь они встречаются чаще и отнюдь не всегда в «Небесном миндале». Люк признался мне, что на прошлой неделе он дважды навещал бабушку у нее дома и каждый раз по часу возился в саду.
— Теперь, когда д-дом отремонтирован, она хочет р-разбить в саду клумбы, — серьезно сказал он. — А сама уже не может копать так, как раньше. Говорит, хочет, чтобы в этом году у нее вместо сорняков росли ц-цветы.
Вчера он принес ей ящик рассады из питомника Нар-сисса и высадил ее во вскопанный грунт у одной из стен дома Арманды.
— Посадил л-лаванду, первоцвет, тюльпаны, нарциссы, — объяснил Люк. — Ей больше нравятся яркие цветы, с сильным ароматом. Она стала хуже видеть, поэтому я приготовил также сирень, лакфиоль, ракитник, — в общем, такие растения, которые она заметит. — Он застенчиво улыбнулся. — Я хочу их посадить перед ее днем рождения.
Я спросила, когда у Арманды день рождения.
— Двадцать восьмого марта, — ответил мальчик. — Ей исполнится восемьдесят один. Я уже подыскал п-подарок.
— Вот как?
Он кивнул.
— Наверно, куплю ей ш-шелковую комбинацию. — Тон у него смущенный. — Она любит красивое нижнее белье.
Подавив улыбку, я сказала, что он выбрал замечательный подарок.
— Придется съездить в Ажен, — озабоченно продолжал он. — А потом спрятать подарок от мамы, а то она скандал закатит. — Он вдруг улыбнулся. — Может, давайте устроим для нее вечер? Поздравим ее со вступлением в следующее десятилетие.
— Надо бы спросить, что она сама думает по этому поводу, — посоветовала я.
В четыре часа домой вернулась Анук — уставшая, довольная и по уши в грязи. Я сделала ванну, сняла с нее грязную одежду и окунула в горячую воду с медовым ароматом. Пока я купала дочь, Жозефина заварила чай с лимоном, и потом мы все вместе сели полдничать шоколадным пирогом, сдобными булочками с ежевичным джемом и крупными сладкими абрикосами из теплицы Нарсисса. Жозефина за столом была задумчива и крутила на ладони абрикос.
— Я все думаю про этого мужчину, — наконец промолвила она. — Про того, что утром приходил.
— Ру.
Она кивнула.
— Его судно сгорело… — неуверенно произнесла она. — Ты думаешь, это не был несчастный случай, да?
— Он считает, что нет. Говорит, что там пахло бензином.
— По-твоему, как бы он поступил, если б нашел… — и дальше с усилием в голосе, — виновного?
Я пожала плечами:
— Понятия не имею. Почему ты спрашиваешь, Жозефина? Тебе известно, кто это сделал?
— Нет, — торопливо ответила она. — Но если бы кто-то знал… и скрыл… — Ее голос дрогнул. — Он… я имею в виду… что он…
Я посмотрела на нее. Избегая моего взгляда, она рассеянно катала по ладони абрикос. Внезапно я уловила тень ее мыслей.
— Ты знаешь, чьих это рук дело, верно?
— Нет.
— Послушай, Жозефина, если тебе что-то известно…
— Я ничего не знаю, — категорично заявила она. — Хотела бы знать, но не знаю.
— Не волнуйся. Тебя никто ни в чем не обвиняет, — с подкупающей лаской в голосе сказала я.
— Я ничего не знаю! — визгливо повторила она. — Правда, не знаю. И потом, он ведь все равно уезжает. Он сам сказал. Он не из этих мест и вообще зря сюда приехал, и… — Она оборвала фразу, громко щелкнув зубами.
— А я видела его сегодня, — доложила Анук с набитым ртом; она жевала булку. — И дом его видела.
Я с любопытством посмотрела на дочь.
— Он с тобой разговаривал?
Она энергично кивнула:
— Конечно. Он сказал, что в следующий раз сделает мне настоящий корабль, из дерева, который не утонет. Если какие-нибудь выродки и его тоже не сожгут. — Анук очень точно передает акцент Ру, произносит его слова с теми же рычащими отрывистыми интонациями.
Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку.
— У него дома холодно, — продолжала Анук. — Прямо на середине ковра печка. Он сказал, что я могу приходить к нему, когда захочу. О… — С виноватым выражением на лице она прикрыла рот ладонью. — Он сказал, чтобы только я тебе ничего не говорила. — Она театрально вздохнула. — А я проболталась, татап. Да?
Я со смехом обняла дочь.
— Да.
У Жозефины вид был встревоженный.
— Не нужно ходить в тот дом! — взволнованно воскликнула она. — Ты же не знаешь этого человека, Анук. Вдруг он насильник.
— Думаю, ей ничего не грозит. — Я подмигнула Анук. — Пока она все мне рассказывает.
Анук в ответ тоже мне подмигнула.
Сегодня хоронили одну из жилиц дома для престарелых «Мимозы», расположенного вниз по реке, в связи с чем посетителей у нас было мало — народ не заходил то ли из страха, то ли из уважения к умершей. От Клотильды из цветочной лавки я узнала, что скончалась старушка девяноста четырех лет, родственница покойной жены Нарсисса. Я увидела Нарсисса — его единственная дань печальному событию — черный галстук, надетый под старый твидовый пиджак, — и Рейно в его черно-белом одеянии священника. Прямой, как палка, он стоял на входе в церковь с крестом в одной руке; вторую он вытянул в гостеприимном жесте, приглашая внутрь всех, кто пришел проводить несчастную в последний путь. Таковых оказалось немного. Может, с десяток старушек, все мне незнакомые. Некоторые пухленькие, похожие на нахохлившихся птичек, как Арманда, другие — усохшие, почти прозрачные от дряхлости, одна сидит в инвалидной коляске, которую толкает белокурая медсестра. Все в черном — в черных чулках, в черных шляпках или платках. Кто-то в перчатках, другие прижимают свои бледные скрюченные руки к плоской груди, словно девственницы на картинах Грюневальда. Пыхтя и отфыркиваясь, они компактной маленькой группкой направлялись к церкви Святого Иеронима. Я видела, главным образом, их пригнутые головы и иногда чье-нибудь серое лицо с блестящими черными глазами, подозрительно косящимися на меня с безопасного расстояния, а медсестра, авторитетная и деятельная, уверенно руководила шествием, катя перед собой инвалидную коляску. Сидевшая в ней старушка держала в одной руке молитвенник и, когда они входили в церковь, запела высоким мяукающим голоском. Остальные хранили молчание и, прежде чем скрыться в темноте храма, кивали Рейно, а некоторые также вручали ему записки в черных рамочках, чтобы он прочел их во время богослужения. Единственный на весь городок катафалк прибыл с опозданием. Внутри — обитый черным гроб с одиноким букетиком. Уныло зазвонил колокол. Ожидая посетителей в пустом магазине, я услышала звуки органа — несколько невыразительных нестройных нот, звякнувших, как камешки, бултыхнувшиеся в колодец.
Жозефина, отправившаяся на кухню за меренгами с шоколадным кремом, тихо вошла в зал и промолвила с содроганием:
— Просто ужас какой-то.
Я вспомнила нью-йоркский крематорий, звучный орган, исполнявший «Токкату» Баха, дешевую блестящую урну, запах лака и цветов. Священник неправильно произнес имя матери — Джин Рошер. Церемония длилась не более десяти минут.
— Смерть нужно встречать, как праздник, — говорила она мне. — Как день рождения. Я хочу взлететь, как ракета, когда наступит мой час, и рассыпаться в облаке звезд под восхищенное «Аххх!» толпы.