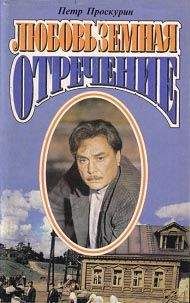Петр Проскурин - Седьмая стража
— Вадим…
— Я просил тебя помочь и выслушать до конца, — резко оборвал Одинцов, с неожиданной легкостью и даже с каким-то изяществом встал, словно сам того не замечая, и под зверовато настороженным взглядом племянника налил большую рюмку коньяку, выпил, залихватски выдохнул из себя воздух и вызывающе дёрнул подбородком. — Вот так-то, племяш, гусь ты мой лапчатый! Вот так то, гусь пролетел, говорится в народе, крылом не задел…
— Но, Вадим, погоди…
— Ты слушай, что тебе старшие говорят, — с несвойственной ему властностью и даже резкостью вновь оборвал племянника Одинцов. — Сейчас же, немедленно поезжай на дачу к Терехову, он там сейчас, и скажи ему, что необходимо сейчас же, не медля, привести в действие инструкцию о нолевой готовности. Можешь назвать меня. И еще отдельно… Пусть обязательно позаботится о сохранении всего, созданного русским гением, ты знаешь, о чем я говорю. Когда-нибудь Россия вновь должна очнуться и воскреснуть, вот всему миру и будет явлено еще раз величие и всеобъемлющее значение русского духа! Иди, Роман…
В лице племянника, смотревшего на дядю не отрываясь, появилось вначале ироническое, затем явно растерянное и обиженное выражение; был момент, когда у него голова пошла кругом, но он усилием воли заставил себя слегка улыбнуться.
— Ну, ладно, ладно, — проворчал Одинцов, опережая племянника и тем самым как бы еще раз предупреждая его молодую горячность. — Ступай, нельзя терять ни минуты.
— Странно, — все-таки не удержался Роман. — Весь вечер пробалагурили — и на тебе! Откуда? Потом, кто такой Сусляков? Да он давно должен…
— Сусляков бессмертен! — Голос Одинцова заставил Романа внутренне сжаться. — Делай свое дело, придет час — поймешь. Будь предельно осторожен.
— Иду, — коротко бросил Роман и, не прощаясь, лишь одарив дядю еще одним быстрым и красноречивым взглядом, повернулся и вышел.
Гладя на закрывшуюся дверь, Одинцов попытался предельно сосредоточиться; некоторое время он стоял у стола и отдыхал. Затем, преодолевая невольный страх, шагнул к креслу, опустился в него, и тотчас горячая, сухая дымка поползла перед глазами…
Его опять словно рывком отбросило на четверть с лишним века назад, в другую совершенно эпоху, хотя и связанную нерасторжимой пуповиной с нынешними событиями и людьми, с ним самим, с Романом, в эпоху, подготовившую и породившую начало нынешнего хаоса в людях и в России. Но делать было нечего, и он, сдерживая бешенство, прежде, чем постучать, придирчиво оглядел старую, безобразно обшарпанную дверь, — он должен был остыть, успокоиться от быстрой ходьбы и появиться перед зятем в своем обычном ровном состоянии и с достоинством. Он вспомнил, как сестра с мужем переезжали на эту квартиру, полученную с его же помощью, переезжали в самый неподходящий момент, и, стараясь окончательно успокоиться, еще помедлил. Увидев перед собой бледное лицо Меньшенина, его улыбку, выражающую черт знает что, только уж не радость или хотя бы элементарное уважение, Одинцов едва сдержал себя, — зять слегка поклонился и молча пригласил входить. Густые запахи коммунального коридора заставили профессора поморщиться, и дверей было слишком много, все они тоже вызывали ощущение какой-то неопрятности. Когда удалось миновать запущенный, нелепо широкий и длинный коридор, ранее, очевидно, адвокатской или докторской квартиры, ныне вобравшей в себя самый разный человеческий конгломерат, Одинцов почувствовал облегчение. От такой вот неопрятной людской скученности его всегда охватывала тоска, казалось, что именно в подобных условиях рождается все тяжелое и в жизни, и в отношениях между людьми, и поэтому, оказавшись в просторной и светлой комнате, наедине с зятем, профессор почувствовал некоторое облегчение.
— Давайте плащ, Вадим, — сказал хозяин устало, с таившими усмешку глазами. — Зоя с Ромкой еще не вернулись из Крыма. Задерживаются, нравится им парное море, пишут…
— Знаю, — кивнул профессор, устремляясь к дивану и бросаясь в его удобное чрево. — Я знаю… поэтому и пришел. Нам надо серьезно поговорить, коллега, серьезно и незамедлительно…
— Слушаю вас, Вадим, слушаю с большим вниманием.
— Хорошо, ежели так, — сказал, остро глянув, Одинцов, вернее, он как бы вслух осторожно высказал свою потаенную мысль, но вызывало это ощущение недоверчивости и даже досады. — Скажи, пожалуйста, какая тебя муха укусила на ученом совете? Давай хоть сейчас скажем друг другу откровенно все… Хорошо, тебе не понравилась моя последняя работа — вполне допускаю. Она и не должна была тебе понравиться. Твои идеи и концепции, скажу откровенно, во мне тоже не вызывают восторга, но ведь именно в борьбе мнений, часто диаметрально противоположных, и заключается плодотворность поиска! Чем же вы недовольны, Алексей? — спросил он задушевно дрогнувшим голосом и, видя, что зять выжидательно молчит, стоя к нему спиной и заинтересованно рассматривая что-то в окно, невольно улыбнулся. — Понимаю, коллега, вы зашли слишком далеко, успели в академию свое мнение сообщить, а я вам еще раз предлагаю мир, спокойную и плодотворную работу. Мы нужны друг другу, ничего непоправимого не произошло…
Меньшенин взглянул на гостя через плечо и встретил открытый, спокойный взгляд человека, вполне осознающего свою силу.
— Я говорю, Алексей, совершенно откровенно, — подтвердил Одинцов. — Просто мне пришлось задержать свое представление, вот войдет все в спокойные берега, посмотрим… Сам еще раз продумаю ситуацию, и другие успокоятся. В некоторых вопросах необходимо холодное сердце. Я жду, — хорошо бы именно теперь прийти к решению, мой дорогой родственник и продолжатель.
— Что вы обо мне заботиться решили? Признателен, конечно… однако, проживу и без ваших забот, благодарю, Вадим, и очень прошу оставить меня в покое, — быстро сказал Меньшенин и сразу же оборвал; в один момент все неясное, запутанное проступило понятно и зримо; все то, что он, со свойственной всем восприимчивым людям обостренностью замечал и на что не обращал внимания, укрупнилось, приобрело неуловимые ранее конкретности: и любопытно-настороженные взгляды в коридорах института, и смущенная поспешность товарищей в разговорах, и преувеличенное внимание студентов, какое-то ощущение пустоты даже в присутствии множества людей вокруг, — он теперь все время словно бы чувствовал какое-то разреженное поле, и, самое главное, оно передвигалось как бы вместе с ним. — Вот что, Вадим, — сказал он после продолжительной паузы, — признаюсь, я не предполагал, что моя записка о монастырских архивах заведет столь далеко. Но что случилось, то случилось, хорошо, не будем больше ворошить старую труху. Вопрос исчерпан, вы согласны? Вот и Сталина давно нет, ушел, отчего же так все кругом напуганы? — жестко спросил он, в то же время думая о том, что хорошо бы попасть куда-нибудь в геологическую партию, в Кара-Кумы, допустим, или в Гоби, в простор, ветер и солнце… он любил солнце и сейчас подумал о нем почти с детской нежностью.
Его вернул из прекрасного далека тихий и размеренный голос шурина:
— Зачем вы пытаетесь обмануть самого себя? Ведь вы лучше любого другого знаете, что Сталин никогда не уходил и никогда не уйдет.
Глянув в отсутствующие и страдающие глаза шурина, Меньшенин пожалел его, и тут какое-то новое ожесточение сжало в груди, глаза его сузились, в них как бы плеснулся голубоватый огонь.
— А-а! — протянул от откровенно насмешливо, с той же бесовски обжигающей тоской души. — Лобзание свершилось… правда, не на тайной вечере… петух пропел. Ну что ж, не в первый, не в последний раз на земле. Вам, Вадим, и разговор наш нужен лишь для отвода глаз, все уже раньше было решено. Вы далеко не оригинальны, дорогой шурин. — Он широко заулыбался, даже как-то дурашливо хохотнул, достал откуда-то из-за шкафчика бутылку шампанского, хлопнул пробкой, налил в два фужера и протянул один изумленно наблюдавшему за ним шурину.
— Да вы что, Алексей? Ради чего — шампанское?
— Причин много, Вадим. Во-первых, чем нам хуже, тем мы должны быть веселей, во-вторых, если уж другим плохо, мы вообще должны плясать…
— Ну что ж…
Одинцов сделал глоток из фужера, поставил его на край стола, скользнул по лицу зятя каким-то невидящим взглядом и двинулся к двери. Он шел словно на ощупь, как-то боком, стараясь не выдать своего нетерпения поскорее вырваться на свободу, — глаза застилала муть обиды. Точен был последний удар, и все-таки Меньшенин был не совсем прав — многое зависело именно от их последнего разговора, даже сейчас еще можно было избежать непоправимого. Что-то остановило его, — перед самой дверью он понял, вернее, почувствовал, что ему нельзя вот так бесповоротно уйти. Ему представилась непроглядная, бесконечная тьма за дверью и ни одного близкого человека, ни одного единомышленника, — стоит только ступить за порог, и бесследно, навсегда исчезнешь, растворишься. «За что же такая судьба и такой суд?» — спросил он себя и, подчиняясь неожиданному сердечному порыву, круто повернулся, шагнул к Меньшенину, взял его за плечи и крепко прижал к себе, и тот, ощутив чужой, неприятный запах какого-то незнакомого одеколона и мужского тела, вздрогнул. Первым чувством Меньшенина было желание оттолкнуть от себя расчувствовавшегося шурина, но это невольное движение переборола какая-то другая сила, и он остался расслабленно стоять, — горячие руки шурина продолжали тискать ему плечи.