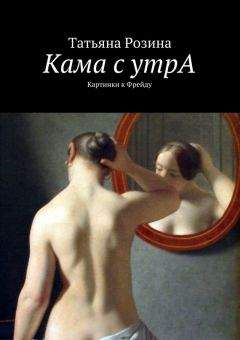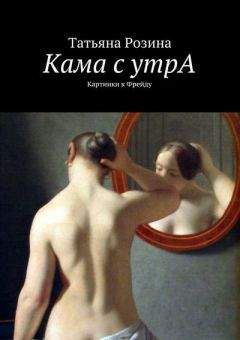Герта Мюллер - Сердце-зверь
А мне сказал:
— Могла бы и пособить.
Я взяла из швейной коробки нитки, выбрала иглу потолще и, вдевая нить, побольше ее вытянула, чтобы нитка получилась двойная. Положила иглу на стул.
— Не надо двойной нитки, — сказала мама, — и так крепко будет. Продержится, пока она до небес доберется.
Мама шила на живую нитку: крупными стежками, узлы на нитке завязывала большие. Ножницы куда-то запропастились, и она перекусывала нитку зубами, низко наклоняясь к мертвой.
Рот бабушки остался открытым, хотя подбородок подвязали платком.
— Пусть отдохнет зверек твоего сердца, — сказала я бабушке.
Мама жила в Аугсбурге. Она мне в Берлин прислала письмо со своими болями в пояснице. Мама не знала, она ли отправитель, и написала в обратном адресе на конверте имя вдовы, у которой жила, — Хелена Шалль.
В мамином письме я прочитала:
«Фрау Шалль тоже была когда-то беженкой. После войны одна осталась с тремя детьми на шее. Без мужа, сама детей на ноги поставила, а теперь вот живет на пенсию. А здесь, между прочим, на пенсию, если никто у тебя на шее не сидит, жить можно припеваючи. Ладно, я против нее ничего не имею.
Фрау Шалль говорит, Ландсхут маленький, не то что Аугсбург. Странное дело, туда же, в Ландсхут, столько народу понаехало из нашей деревни. Фрау Шалль показала мне карту. А уж названий на ней что одежек в здешних магазинах. Видимо-невидимо понавешано, а ни одной не укупишь.
В городе я, когда читаю, что на автобусах написано, так даже затылок ломить начинает. Я вслух читаю названия улиц. Автобус проехал — тут сразу и забываю их. А фотографию нашего дома я положила в столик у кровати, чтобы днем на глаза мне не попадалась. А вот вечером, перед тем как свет гасить, смотрю я на дом наш. Посмотрю, посмотрю, стисну зубы и думаю: хорошо, что свет гасить пора и темно в комнате будет.
Дороги тут хорошие, но всё очень далеко. А по асфальту ходить я непривычная, ноги гудят. И голова гудит. Я тут за день, бывает, так намаюсь, как дома, поди, за целый год».
«Дом теперь уже не наш дом, — написала я маме. — В нем живут другие. А дом там, где ты сам».
На конверте я вывела крупными буквами: «Фрау Хелене Шалль». Имя и фамилию мамы написала строчкой ниже, мелкими буковками и в скобках. И в скобках вдруг увидела маму: вот она ходит-бродит, ест и спит и любит меня в страхе, и страх этот большой, как буквы адреса. Полы, стол, стулья и кровать там, где она живет, принадлежат фрау Шалль».
Мама в ответ написала: «Откуда тебе знать, что такое родной дом? Где часовщик обихаживает могилы, там и дом родной».
Эдгар жил в Кёльне. Мы получали одинаковые письма со скрещенными топорами: «Вы приговорены к смерти, скоро мы до вас доберемся».
На почтовом штемпеле значилось — Вена.
Эдгар и я звонили друг другу, для поездки денег у нас было слишком мало. Голос в телефонной трубке — этого тоже было мало. И вовсе не было у нас привычки говорить по телефону о чем-то тайном, язык от страха прилипал к гортани.
И по телефону же настигали меня угрозы смерти, по трубке, и, говоря с Эдгаром, я вдруг прижимала трубку к щеке. В эти минуты мне чудилось, будто мы привезли с собой капитана Пжеле.
Эдгар жил еще в общежитии для переселенцев. «Я старикашка во цвете лет, — шутил он, — несостоявшийся учитель». Так же, как два месяца тому назад от меня, от Эдгара потребовали доказать, что в Румынии его выгнали с работы по политическим мотивам. «Только свидетели — этого нам мало, — сказал чиновник. — Необходима бумага с печатью, которая это подтверждает». — «Где ж ее взять?» Чиновник пожал плечами и поставил стоймя свою шариковую ручку, прислонив к вазе с цветами. Ручка упала.
Как уволенные, мы не получали пособия по безработице. Мы считали и пересчитывали каждый грош и не могли видеться друг с другом так часто, как нам хотелось.
Мы дважды съездили во Франкфурт, чтобы увидеть место, где умер Георг. Первый раз никаких фотографий для Курта не сделали. Во второй раз уже хватило духу, чтобы поснимать для Курта. Но тогда Курт уже лежал на кладбище.
Мы посмотрели на то окно изнутри и снаружи, на мостовую — сверху и с улицы. По длинному пустому коридору общежития бегал ребенок, он громко сопел. Мы шли на цыпочках. Эдгар забрал у меня фотоаппарат и сказал: «Приедем сюда еще раз. Из-за слез ничего не получится».
На лесном кладбище мы пошли по главной аллее. Тишину зеленых плющей хотелось разорвать. На одной из могил стояла казенная табличка: «Данное захоронение не содержится в надлежащем порядке. До истечения срока в один месяц просим привести захоронение в надлежащий вид, в противном случае будет произведено выравнивание. Администрация».
На могиле Георга слез у меня не было. Эдгар ткнул носком ботинка сырую землю на краю могилы и сказал: «Там, внизу, он». Эдгар подобрал комок земли и подбросил его в воздух. Мы услышали, как он упал. Эдгар взял еще комок и бросил в свой карман. Этот упал беззвучно. Эдгар посмотрел на свои ладони: «Вот мерзость». Я поняла, что он имел в виду не только землю. Могила возвышалась над землей, как лежащий набитый мешок. А окно, подумала я, наверное, мне привиделось. Я трогала это окно, но руки ничего не ощутили, когда я открыла его и потом закрыла, — все было так же, как когда откроешь и закроешь глаза. Настоящее окно, должно быть, там, внизу, в могиле.
Что принесло тебе смерть, то и уносишь с собой, подумала я. Гроб не укладывался в голове — только окно.
Не знаю, каким образом здесь, на кладбище, мне вдруг вспомнилось слово «сверхживучесть». Но возле этой могилы я поняла, что оно означало и тогда, и теперь.
Это слово я уже не забыла.
Я могла бы теперь объяснить Терезе: сверхживучее — окно, которое не исчезает, если из него кто-то выбросился. Но я не хотела писать об этом в письме. Капитана Пжеле не касается, что значит «сверхживучесть». Он был слишком гнусен, чтобы отнести это слово к себе самому. Он разводил кладбища даже в тех местах, где не бывал лично. Он знал кое-какие окна в кое-каких коридорах.
Когда Эдгар и я уходили с кладбища, деревья качались. Ветер пригибал к земле кривые ветви. Замерзшие фрезии и тюльпаны стояли на могильных плитах, как на столах. Эдгар щепкой очистил свои подметки. Я подумала: на стволах деревьев должны бы находиться дверные ручки. Я была слепой, как когда-то в лесу. Я их не увидела.
После маминых болей в пояснице я прочитала: «На этой неделе прибыл ящик с моими вещами. Доска и скалка для лапши пропали. В субботу вечером я принесла домой двух голубей. В карманах пальто. Вкусный будет супчик, думала. А фрау Шалль сказала нельзя, голуби — собственность города. Заставила меня отнести их назад. Я ее уверяла, мол, никто меня не видал. А голуби могли бы и улететь, говорю, — попались, значит, сами виноваты, хоть они и городская собственность. В парке голубей этих полно.
Ну, пришлось опять сунуть их в карманы и идти. Прошла я два дома и думаю, дай-ка выпущу их тут. Они городские, ну так и без меня дорогу найдут. На улице как раз ни души. Посадила я их на обочине, в траву. Думаешь, взлетели? Как бы не так. Уж я руками махала-махала, все равно сидят и не улетают. Гляжу, ребенок на велосипеде катит. Остановился, слез и спрашивает, что, мол, тут такое. Я ему: „Что, что — два голубя. Улетать отсюда не хотят“. Ребенок говорит: „Ну и пусть сидят, вам-то какое дело?“ И уехал. Только уехал, мужчина подходит и говорит: „Они из парка, кто их сюда принес?“ Я сказала: „А ребенок, вон, на велосипеде“. Он как заорет: „Что вы сочиняете, это мой внук!“ — „Я не знала“, — говорю. Я же и правда не знала. В общем, опять сунула голубей в карманы. Тот мужчина вытаращился, ну я и скажи: „Каждый останавливается на минутку, и никто не позаботится. Отнесу голубей в парк“».
Курт через таможенника — знакомого отца Эдгара — переправил нам толстый пакет со списком погибших при побеге, со стихотворениями о жулане-девятисмертнике, с фотографиями кровохлебов и заключенных. На одном снимке был капитан Пжеле.
«Умерла Тереза, — писал Курт. — Когда она нажимала пальцем себе на голень, оставалась глубокая ямка. Ноги у нее сделались как два бурдюка, таблетки эту воду уже не гнали, вода поднялась к сердцу. В последние недели Тереза прошла курс лучевой терапии, потом были жар и рвота.
Я держался Терезы до тех пор, пока она не съездила к тебе. Ее послал к тебе Пжеле. Я не хотел, чтобы она ехала. Она сказала: „Завидуешь, вот и всё“.
После поездки в Германию она меня избегала. Она ходила отчитываться. После той поездки я видел ее только два раза. Я потребовал, чтобы она вернула то, что у нее находилось, и она всё вернула. Но я ничуть не удивился бы, если бы Пжеле однажды достал все это из своего письменного стола.
Я подал заявление на выезд, весной увидимся».
Смерть Терезы ударила меня так больно, точно у меня две головы и они сшиблись. В одной была моя скошенная любовь, в другой — ненависть. Я хотела, чтобы скошенная любовь выросла заново. Она и выросла, как былье вперемешку с соломой, и стала самым ледяным, самым рассудочным словом в моем мозгу. Она была моим придурочным кустом.