Ванесса Диффенбах - Язык цветов
Готовясь к появлению ребенка, я купила самое необходимое для новорожденных: несколько одеял, бутылочку, молочную смесь, пижаму и шапочку. Что еще покупать, я понятия не имела. В тупом оцепенении я брала с полок вещи, не чувствуя ни радости, ни волнения. Родов я не боялась. Женщины рожали с начала времен. Матери и дети умирали; матери и дети выживали. Матери растили детей и бросали их, будь то мальчики или девочки, здоровые или больные. Я подумала обо всех возможных исходах, и ни один не казался привлекательнее остальных.
Двадцать пятого февраля я проснулась оттого, что плавала в воде, и вскоре после этого началась боль.
Наталья все еще была в отъезде, и слава богу. Я думала, что мне придется кусать зубами подушку, чтобы заглушить родовые крики, но в этом не было необходимости. Была суббота, соседние офисы не работали, и наша квартира была пуста. С первой схваткой, накатившей, как волна, я открыла рот и издала низкий рык. Я не узнавала ни собственный голос, ни обжигающую боль в теле. Когда все прошло, я закрыла глаза и представила, как плаваю в глубоком синем море.
Я плавала минуту или две, а потом боль вернулась и была сильнее прежнего. Перекатившись на бок, я почувствовала, что стенки моего живота стали как металл, что они надвигаются на ребенка со всех сторон и выталкивают его. Я хваталась пальцами за меховой ковер и выдергивала клочья мокрой шерсти, а когда боль проходила, в ярости била кулаками по образовавшимся проплешинам.
Запах ясенца и влажной земли как будто звал ребенка, и мне хотелось лишь одного – чтобы он поскорее вышел. Если бы я рожала на холодном бетонном тротуаре, среди машин и шума, было бы лучше. Ребенок сразу бы понял, что в этом мире не бывает мягко и нечего рассчитывать на теплый прием. Я пошла бы на Мишн-стрит, купила бы пончик, и от убийственной дозы шоколадной глазури ребенку бы поплохело, и он решил бы не рождаться. Я сидела бы на стуле из жесткого пластика и чувствовала, как проходит боль; разве могла она не пройти?
Я выползла из голубой комнаты и попыталась встать. Не смогла. Как низовое течение, схватки затягивали меня на глубину. Встав на четвереньки, я подползла к табуретке, стоявшей у барной стойки; свесила шею за металлическую перекладину. Может, она сломается, подумала я с некоторым воодушевлением. Может, голова моя отвалится, покатится по полу – и все на этом кончится. Когда накатила следующая схватка, я открыла рот и закусила металл.
Боль отпустила, и захотелось пить. Опираясь о стену, я доковыляла до ванной, склонилась над раковиной, включила кран и сложила руки, набирая полные пригоршни воды и отправляя в рот. Но мне было мало. Тогда я пустила воду в душе и легла в ванну; тонкий ручеек стекал мне в рот. Я заворочалась, позволяя воде проникнуть под одежду и промочить все тело. Так я лежала, прислонившись головой к стене и чувствуя, что поясница вот-вот сломается под давлением. Потом горячая вода кончилась, и я встала. С одежды капало на пол, я дрожала от холода.
Я вылезла из ванны, склонилась над раковиной и начала ругаться, громко и злобно. Мне казалось, что я возненавижу своего ребенка. Наверняка все матери втайне ненавидят своих детей за то, что те подвергли их родовым мукам, – простить такое просто невозможно. В тот момент я поняла свою мать так хорошо, словно только что познакомилась с ней. Представила, как она одна выходит из больницы и чувствует, что ее тело буквально раскололось надвое. Вот она бросает своего прекрасного запеленатого ребенка, на которого променяла свое некогда прекрасное тело и жизнь, в которой не было боли. Эту боль и эту жертву невозможно простить. Я не заслуживала прощения. Глядя в зеркало, я попыталась представить лицо матери.
Пронизывающая боль следующей схватки заставила меня согнуться пополам и прижаться лбом к металлическому крану с изогнутым носиком. А подняв голову и снова посмотрев в зеркало, я увидела лицо не своей матери, а Элизабет. Ее глаза подернулись поволокой, как во время выжимки винограда; в них были дикость и предвкушение.
Больше всего на свете мне хотелось быть с ней.
5– Элизабет! – позвала я.
Мой голос был взволнованным, нетерпеливым. Луна над трейлером Перлы взошла рано, и низкий прямоугольный прицеп отбрасывал сумрачную тень на пригорок, где я стояла. Элизабет отозвалась сразу же, бросившись ко мне по границе тени. Она выныривала из темноты и снова скрывалась в ней, пока не очутилась рядом. Лунный свет серебрил седые волосы на ее висках. Ее лицо находилось частично в тени и, казалось, состояло из углов и черточек, объединенных в единое целое большими, тепло-карими глазами.
– Вот, – сказала я. Сердце билось так, что я сама его слышала. Я протянула ей виноградину, сперва протерев ее мокрой футболкой.
Элизабет взяла ягоду и посмотрела на меня. Ее рот то открывался, то закрывался. Она пожевала ягоду один раз, выплюнула косточки, снова пожевала, сглотнула и пожевала в третий раз. Тут ее лицо переменилось. Из него ушло напряжение, и сахар в виноградине точно разгладил ее кожу; она залилась юным румянцем, улыбнулась и без колебания заключила меня в объятия. Гордость за мое великое достижение наэлектризовала воздух вокруг нас, и взаимная радость окружила нас защитным пузырем. Я прижалась к ней – гордая, сияющая, обнимала ее за талию, ступни стояли неподвижно, а сердце выпрыгивало.
Взяв меня за плечи и держа вытянутыми руками, она заглянула мне в глаза.
– Это оно, – сказала она. – Наконец-то.
Почти неделю мы были в поисках первой спелой ягоды. Из-за внезапного потепления ягоды стали набирать сахар так быстро, что невозможно было оценить спелость тысячи лоз. Элизабет в отчаянии начала гонять меня по винограднику, словно я была ее вторым языком. Неохваченными оставались огромные пространства, но мы с Элизабет разделились и ряд за рядом пробовали, высасывали сердцевину, жевали кожицу и плевались косточками. Элизабет дала мне заостренную палку, и возле каждой лозы я должна была нарисовать О или Х, ее символы солнца или тени, а рядом проставить соотношение сахара и танинов. Я начала от дороги: О 71:5, затем двинулась к трейлерам: Х 68:3, и вверх по холму над винным погребом: О 72:6. Элизабет же пробовала в нескольких акрах от того места, где я, но в конце концов нагнала меня и прошла по моим стопам, дегустируя через ряд или два и сверяя свои результаты с моими.
Ей ни к чему было сомневаться в моих способностях, и теперь она это знала. Она поцеловала меня в лоб, и я качнулась вперед. Впервые за многие месяцы я чувствовала себя нужной и любимой. Сев на пригорок, Элизабет притянула меня к себе. Мы сидели в тишине, наблюдая восход луны.
Все наше внимание было направлено на предстоящий сбор урожая, и мы позабыли о предостережении Гранта. Не было времени думать о Кэтрин и ее угрозах. Но теперь, в окружении спелых ягод, когда сама кровь в наших венах пульсировала от любви друг к другу и виноградникам, слова Гранта снова пришли на ум. Я занервничала.
– Тебе не страшно? – спросила я.
Элизабет сидела тихо, задумавшись. Прежде чем заговорить, повернулась ко мне и убрала челку с глаз, погладив меня по щеке. Потом кивнула и ответила:
– За Кэтрин – да. Но не за виноградник.
– Почему?
– Моя сестра не в себе, – сказала она. – Грант не распространялся, но это было и не нужно. Он сам был в ужасе. Ты поняла бы, если бы видела его лицо – и знала мою мать.
– Почему? – Я не понимала, какое отношение покойная мать Элизабет имеет к нынешнему состоянию Кэтрин или страху на лице Гранта.
– Моя мать была ненормальная, – ответила Элизабет. – Последние несколько лет ее жизни я даже с ней не встречалась. Боялась. Она не помнила меня… или вспоминала только что-то ужасное, что я когда-то сделала, и винила меня в своей болезни. Это был ужас, но все равно нельзя было бросать ее – и бросать Кэтрин с такой ношей.
– А что ты могла сделать?
– Ухаживать за ней. Но сейчас слишком поздно говорить об этом. Она умерла почти десять лет назад. Но я все еще могу позаботиться о сестре, даже если она этого не хочет. Я уже говорила с Грантом, и он считает, что можно попробовать.
– Что? – Я замерла. Мы с Элизабет пробовали виноград по двенадцать часов в день; когда она успела встретиться с Грантом?
– Мы нужны ему, Виктория, и нужны Кэтрин. Их дом почти такой же большой, как у нас, – всем хватит места.
Тут я медленно начала мотать головой, а когда ее слова дошли до моего сознания, замотала быстрее. Волосы разметались и трепали меня по носу. Элизабет хочет, чтобы мы переехали к Кэтрин. Хочет, чтобы я жила и помогала ухаживать за женщиной, которая испоганила мне всю жизнь.
– Нет, – сказала я, вскочила и отбежала в сторону. – Можешь переезжать, но я не поеду.
Когда я посмотрела на нее, она отвернулась, и мои слова так и остались без ответа.
6Я хотела видеть Элизабет.
Хотела, чтобы она обняла меня, как тогда, на винограднике, и вытерла мое промокшее от пота лицо и плечи бережно, но тщательно, как раны от шипов. А потом завернула в марлю и отнесла завтракать, и велела не лазать больше в кустах.


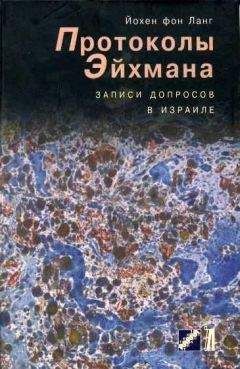
![Генрих Бёлль - Избранное [ Ирландский дневник; Бильярд в половине десятого; Глазами клоуна; Потерянная честь Катарины Блюм.Рассказы]](/uploads/posts/books/121756/121756.jpg)
