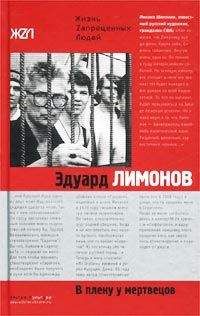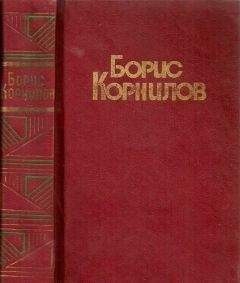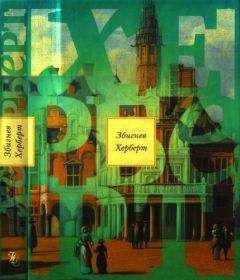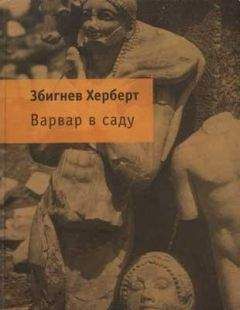Александр Проханов - Рисунки баталиста
– Почему вы косите серпами, а комбайн стоит без дела? – спросил он. – Ваше поле большое, есть где развернуться комбайну. Может, вы считаете, что он уберет хлеб не так чисто, как крестьянские руки?
– Нет, мы не думаем так, – покачал головой председатель. – Мы хотели пустить комбайн, но нам помешали. Злые люди пришли в кишлак и нам помешали. Они приставили мне нож вот сюда, – он вытянул свою худую зобатую шею и ткнул пальцем в горло. – И сказали: «Ты больше не председатель кооператива. Вы снимете свой урожай и половину отдадите нам, чтоб вам больше неповадно было грешить против аллаха! А потом разберете свои межевые камни и положите их на место, куда положили их, с благословения аллаха, ваши деды. И не вам, недостойным, разрушать то, что построил аллах!» Потом они пошли в дом комбайнера и, избивего, сказали, что, если он сядет на машину, они повесят на этой машине его самого, его жену и детей. Потом они пришли к комбайну и вылили из него все горючее. Сказали, что скоро снова придут в кишлак и проверят, все ли мы поняли из их слов. Комбайнер испугался, забрал жену и детей и уехал в Герат. А мы убираем поле, считаем снопы и думаем: сколько останется нам, если половину у нас отберут? Дотянем ли до весны или кому-нибудь, у кого много детей и ртов, придется бросать кишлак и идти на заработки в Иран?
Председатель растерянно смотрел на большое поле, сулившее надежды и радости, принесшее беду и несчастье.
– Что он говорит? – спросил Кандыбай, чутко слушая рассказ председателя, угадывая его горький смысл. – Что тут у них стряслось?
Коногонов перевел рассказ председателя.
– Пусть винтовки возьмут! Пусть позовут военных! Зачем «духам» хлеб отдавать? – Кандыбай подхватил автомат, спрыгнул на землю. Подошел к комбайну и цепко, ловко ощупал его сверху донизу. Заглянул под днище, обошел с хвоста. – Машина в порядке! Только бак пустой. Спустили, гады, в землю горючее и пробку тут же бросили… Товарищ лейтенант! – загораясь, становясь как бы тоньше и выше, сказал Кандыбай. – А что, если мы комбайн запустим! Нам своего топлива хватит! Откачаем в комбайн горючее, и я запущу! Здесь дел-то – раз-два!
Коногонов, увлекаясь этой мыслью, разделяя молодое нетерпение сержанта, перевел председателю:
– Мой водитель умеет водить и комбайн. Он просит позволения сесть в кабину и скосить ваше поле.
Председатель молчал. Потом его черные, запавшие, тревожно мигающие глаза вдруг зажглись сухим блеском, как тогда, на митинге, когда на груди у председателя краснел бант, и он прикреплял к трактору красный флажок, и трактор был накрыт ковром, как попоной.
– Пусть косит! – сказал председатель. – Пусть люди увидят, как работает комбайн! Пусть видят – кооператив не умер!
Кандыбай извлек из броневика шланг и мятое ведро. Вдвоем с председателем открыли у броневика бак, затолкали шланг. Кандыбай, оскалив зубы, схватил шланг ртом, засосал топливо. Окунул прозрачно-желтую, остро пахнущую струю в ведро. Когда оно наполнилось, знаками повел за собой расторопного, суетящегося афганца, и они перелили горючее в комбайн. Еще и еще раз.
– А теперь, товарищ лейтенант, смотрите, что мы умеем!
Кандыбай угнездился в кабине. Улыбнулся, подмигнул афганцу. Запустил двигатель. Опробовал рычаги управления, заставив вращаться в комбайне шкивы и колеса. Наполнил железную полую машину гулом и рокотом. Опустил ниже жатку с режущей молнией ножей, с крутящимся, хлопающим воздухом мотовилом. И тронул комбайн вперед.
Алая махина надвинулась на белую стену пшеницы. Коснулась ее. По пшенице побежала, как по воде, волна. И комбайн, утопая в колосьях, вошел в них, выстригая поле, неся перед собой яркий мелькающий вихрь, оставляя сзади колючую рябую стерню.
Люди, опустив серпы, перестали работать. Смотрели на красную грохающую машину, идущую вдоль их поля. Председатель, подпрыгивая, взмахивая руками, стараясь повторить движения мотовила, шкивов, крутящего штурвал комбайнера, бежал по стерне, оглядываясь на Коногонова. Звал за собой, не в поле, а куда-то вверх, ввысь, куда намеревался взлететь вслед за алой огромной птицей.
Комбайн приподнял в хвосте решетку и вывалил спрессованный куб соломы. Золотая, напоминающая слиток копна лучилась, испускала сияние. Коногонов, откинув на спину автомат, ликуя, подошел к копне, к председателю, волочившему на своем башмаке колосок, вздымавшему руки вверх, благодаря то ли небо, то ли сидящего в высокой кабине сержанта.
Комбайн развернулся и пошел обратно. Кандыбай помахал Коногонову. Проежая мимо, обдавая его теплым духом спелых выбитых зерен, грохотом бушующего железа, снова открыл хвостовые ворота, вывалил рядом с первой вторую золоченую башню. И зрелище этой яркой живой копны наполнило Коногонова ликующим чувством.
Здесь, в афганском селении, на истерзанных войною полях, он творил свое негрозное дело. Не стрелял, не губил хлеба, а косил, собирал.
Коногонов вдруг подумал о друге. О сверстнике, с кем дружили в университете. Вечно спорили, превратив свой союз в непрерывную незлобивую распрю. Искали друг друга, чтобы спорить, схлестнуть свои интеллекты, осыпать друг друга упреками, почти рассориться и снова торопиться друг к другу. Часами по телефону обсуждали проблемы истории. Друг изучал древний Псков, тонкую, светлую культуру на северо-западе Руси, уходившую корнями в языческие толщи угро-финнов и кривичей, осевших на озерах и реках. Ездил копать древние жальники, извлекая из погребений бронзовые ожерелья, височные кольца и гривны и хрупкие безымянные кости витязей, рыбаков, земледельцев. Друг упрекал Коногонова в том, что тот отказался от познания отечества, углубился в ислам, питал своим духом чужое дерево, в то время как здесь, в родной истории, был непочатый простор для талантов, смелых открытий, бескорыстного, одного на всю жизнь служения. Друг не хотел принимать его, Коногонова, доводов, что судьба России давно слилась с судьбою народов Востока, и мощный, один из главных векторов русской истории глядит на Восток. В сегодняшней многоликой державе соединилось множество разных народов, в том числе и восточных, питая общее древо, взращенное среди трех океанов.
Вот если бы друг оказался сейчас с ним рядом! Увидел его посреди афганского поля, по которому ходит красный советский комбайн и казах из целинной степи убирает пуштунский хлеб. «Ну какой еще аргумент тебе нужен!»
Он приближался к копне, видя, как председатель, опередив его, торопится навстречу комбайну, сделавшему новый разворот, проглотившему добрую половину поля, разделив пшеницу на ворохи огненно-белой соломы и на невидимое в бункере зерно. Он был погружен в полемику с другом. Обдумывал, как запишет новые, родившиеся на пшеничном поле доводы, в свою сокровенную тетрадь. И люди, что перебегали по другую сторону низкой глинобитной стены, были похожи на других, стоящих у края нивы с серпами. Те же голубоватые и желтоватые перевязи, те же пузырящиеся просторные штаны, тот же поблескивающий в руках металл. И только когда ахнул тугим дымом гранатомет и шипящая, рассыпающая искры струя с огненной головой промчалась мимо него, вонзилась в броневик, лопнула внутри и машина, содрогнувшись, брызнула пламенем, только тогда он понял, что люди за стеной держат в руках оружие и это оружие бьет по нему, Коногонову, пуская вокруг молниеносные свисты.
Он растерялся, остолбенел, забывая упасть. Видел огромными от ужаса глазами всю окрестность разом.
Узко висела, не успев расшириться, дымная трасса, соединившая гранатометчика в серой чалме с горящим броневиком. Комбайн продолжал молотить, и в стеклянной кабине двигался Кандыбай. Председатель бежал, расставив руки, огибая копну. Но Коногонов, в прозрении испуга, понимал, что случилось то, поджидавшее его поминутно, о чем говорили ему постоянно, что до времени его обходило, доставалось другим.
Он увидел, как запнулся, упал председатель. Тонкие красноватые иглы, пощупав его, лежащего, поколов вокруг него поле, поднялись выше, полетели туда, где бежали врассыпную крестьяне, хоронясь в арыке, исчезая в пшенице. Председатель лежал неподвижно, голубея одеждой, и Коногонов вдруг подумал, что в его башмаке все так же торчит колосок.
Выстрелы и трассы сместились, били теперь по комбайну. Коногонов почти телесно ощущал пулевые попадания в краснотелую машину, прострелы в жесть и в стекло. И там, в кабине, в расколотом стеклянном кристалле, они попадали в живое тело, в Кандыбая. Комбайн встал, мотовило продолжало крутиться, молотя пустой воздух. А в кабине метался, ударялся о стеклянные грани сержант. Оседал, пропадал. И эти два почти одновременных попадания – в председателя и Кандыбая, зрелище двух пораженных машин – броневика и комбайна, заставило его очнуться. Паралич, словно больное, сотрясшее его электричество, прокатился сквозь тело, судорогой ушел в землю. Он был теперь один среди открытого поля. В руках у него был автомат. Он был офицер, принимающий бой в одиночку.